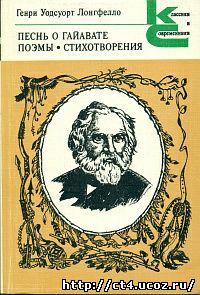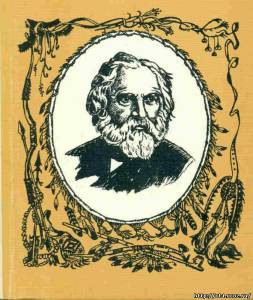Раздел ХИЛ-127
Генри Уодсуорт Лонгфелло
ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ • ПОЭМЫ СТИХОТВОРЕНИЯ
Перевод с английского
М.: Худож. лит., 1987. — 414 с. (Классики и современники. Поэтич. б-ка)
Художник И. Шипулин
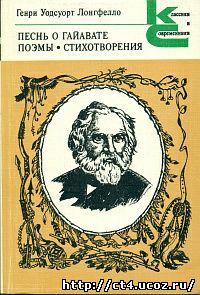
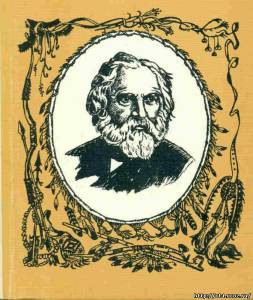 
Аннотация:
В данное издание «Поэтической библиотеки» входят лучшие произведения классика американской литературы XIX века Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807—1882) — поэмы «Песнь о Гайавате» (1855) и «Эванджелина» (1847), а также избранные стихотворения, которые помогут читателю проследить весь творческий путь поэта-романтика.
Содержание
А. Зверев. «...Эти сказки и легенды с их лесным благоуханьем»
П о э м ы
Песнь о Гайавате (Поэма). Перевод И. Бунина
Эванджелина (Поэма). Перевод Г. Кружкова
Стихотворения
Гимн ночи. Перевод Т. Гутиной
Псалом жизни. Перевод И. Бунина
Апрельский день. Перевод М. Касаткина
Видения. Перевод С. Таска
Погребение Миннисинка. Перевод Вс. Рождественского
Деревенский кузнец. Перевод М. Донского
Эндимион. Перевод Э. Липецкой
Excelsior! Перевод В. Левика
Mezzo Cammin. Перевод В. Левика
К Уильяму Чаннингу. Перевод М. Михайлова
Очевидцы. Перевод С. Таска
Сон невольника. Перевод М. Михайлова
Невольник в Черном болоте. Перевод М. Касаткина
Неотъемлемое благо. Перевод М. Михайлова
Полуночная песнь раба. Перевод А. Спаль
Квартеронка. Перевод М. Донского
Предостережение. Перевод М. Михайлова
Lenvoi. Перевод А. Парина
Башня в Брюгге. Перевод С. Таска
Арсенал в Спрингфилде. Перевод С. Таска
К ребенку. Перевод М. Бородицкой.
Нюренберг. Перевод Вс. Рождественского
Джекойва. Перевод Я. Пробштейна
Вечерняя звезда. Перевод Р. Дубровкина
Песочные часы. Перевод Р. Дубровкина
Гонимому облаку. Перевод М. Зенкевича
Водоросли. Перевод М. Бородицкой
Дня нет уж... Перевод И. Анненского
Вальтер фон дер Фогельвайд. Перевод К. Чуковского
Февральский вечер. Перевод Б. Томашевского
Стрела и песня. Перевод Д. Михаловского
Данте. Перевод Э. Липецкой
Мильтон. Перевод Т. Гутиной
Постройка корабля. Перевод Е. Полонской ( скачать -PDF-файл )
Сумерки. Перевод А. Штейнберга
Сэр Хэмфри Гилберт. Перевод Р. Дубровкина
Маяк. Перевод Е. Полонской
Строители. Перевод Р. Дубровкина
Посвящение. Перевод Я. Пробштейна
Перелетные птицы. Перевод М. Донского
Прометей. Перевод М. Касаткина
Корабль-призрак. Перевод Вс. Рождественского
Еврейское кладбище в Ньюпорте. Перевод Э. Липецкой
Моя утраченная юность. Перевод Г. Кружкова
Детвора. Перевод И. Фрадкина
Эпиметей. Перевод А. Парина
Золотая Веха. Перевод К. Чемена
«Камберленд». Перевод Р. Дубровкина
Хлопья снега. Перевод Э. Липецкой
Солнечный день. Перевод А. Энгельке
Фата-моргана. Перевод В. Шора
Перемена. Перевод А. Энгельке
Путешествия у камина. Перевод Б. Томашевского
Голландская картина. Перевод Вс. Рождественского
Скачка Поля Ревира. Перевод М. Зенкевича
Эмма и Эгинхард. Перевод М. Донского
Памяти Готорна. Перевод Э. Липецкой
Ветер в камине. Перевод Б. Томашевского
Роберт Берне. Перевод С. Таска
Обломки мачт. Перевод Р. Дубровкина
Чосер. Перевод Э. Шустера
Шекспир. Перевод Э. Шустера
На чтение Шекспира госпожой Кембл. Перевод М. Бородицкой
Ките. Перевод Г. Кружкова
Нахлынет прилив, и отхлынет прилив... Перевод Р. Дубровкина
Венеция. Перевод В. Левика
Томление. Перевод Г. Кружкова
Сломанное весло. Перевод Г. Кружкова
День памяти павших в Гражданской войне 1861—1865 гг. Перевод Б. Томашевского
Четыре часа утра. Перевод Б. Томашевского
Утраты и достижения. Перевод Б. Лейтина
Мои книги. Перевод Б. Томашевского
Возможности. Перевод Б. Томашевского
Снежный крест. Перевод Б. Томашевского
Вечерний звон. Перевод Я. Пробштейна
Колокола Сан-Бласа. Перевод Вс. Рождественского
Morituri salutamus. Перевод М. Бородицкой
Примечания А. Зверева
Если интересуемая информация не найдена, её можноЗаказать
«...ЭТИ СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ С ИХ ЛЕСНЫМ БЛАГОУХАНЬЕМ»
Никто из литературных современников Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807—1882) не знал такой прижизненной славы. В этом отношении соперничать с американским поэтом мог разве что Гюго. Однако Гюго тогда казался чересчур злободневным. Многие считали, что его стихи, слишком насыщенные отзвуками текущих событий, не переживут своей эпохи. Иное дело «Песнь о Гайавате» или «Перелетные птицы». Тут ничего случайного и преходящего. Тут царствует нетленная красота, высокая гармония осуществленной художественной истины. Поэзию Гюго не раз сравнивали с зарифмованным фельетоном-однодневкой. Стихотворения Лонгфелло воспринимались трепетно, словно они были высечены резцом по мрамору. Предполагалось, что любой его строке гарантировано бессмертие.
Так думали в ту пору американцы, так смотрели на Лонгфелло и в Европе. Мало кем в середине прошлого века американская литература толковалась всерьез, но Лонгфелло был исключением. Одних русских переложений знаменитого «Псалма жизни» к 1900 году, когда появился классический перевод И. Бунина, насчитывалось более десяти. В Германии, во Франции картина была точно такой же. И даже в Китае изящные веера украшали строками из Лонгфелло.
Существенна, впрочем, не столько сама эта популярность. Интереснее понаблюдать за читательской реакцией. А она была разной. Когда в год крестьянской реформы и вызванных ею волнений некрасовский «Современник» поместил подготовленную М. Михайловым большую подборку из единственного цикла Лонгфелло, посвященного тревожным вопросам его времени, — «Стихи о рабстве», — понятно, какой отклик вызвала эта публикация, какое отношение к автору она устанавливала. О российских «домашних неграх» говорено было достаточно, метафора сделалась более чем прозрачной. Разумеется, не американские, а свои отечественные заботы волновали подписчиков «Современника», читавших это патетическое обращение к Уильяму Чаннингу, одному из самых убежденных противников рабовладельческой системы:
Не прерывай свой грозный клич,
Покуда Ложь — законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич
Позорят званье человека!
Человек, написавший такие строки, наверняка должен был восприниматься как поэт-трибун, чьи слова — «разящий меч // В священной битве за свободу». Но этот образ был по меньшей мере неполным. Он скорее говорил о том, как понимали долг литератора передовые русские люди, чем о мотивах, побуждавших к творчеству самого Лонгфелло.
В его биографии «Стихи о рабстве», напечатанные в 1842 году, остались только эпизодом. Правда, через двадцать лет, в разгар Гражданской войны, муза Лонгфелло вновь воодушевилась патриотическим пафосом. Несколько его стихотворений того времени способны украсить любую антологию гражданственной поэзии. Это, впрочем, тоже был эпизод — яркий, однако недолгий. Пушки еще не умолкли, а Лонгфелло, словно позабыв, что происходит вокруг, перечитывал «Кентерберийские рассказы» Чосера для задуманной книги собственных стихотворных новелл на исторические сюжеты да завершал давно начатый перевод «Божественной Комедии» Данте.
Оставшиеся творческие силы будут почти полностью отданы этой работе. А две лирические книги, опубликованные незадолго до смерти, — «Крайний предел» (1880) и «В гавани» (1882) — закрепят за Лонгфелло репутацию, которая уже давно сложилась. Репутацию олимпийца, которого мало тревожат мелочные побуждения его ничтожного века. Потому что он обитает в горних высях, куда не доносятся отголоски земной суеты.
Да, по-своему эта репутация тоже была односторонней. Но Лонгфелло, во всяком случае, к ней стремился. И во многом ей способствовал всей литературной деятельностью. Он, чьи предки гордились своим происхождением от первых переселенцев, приплывших в Новый Свет на корабле «Майский цветок», чувствовал себя на родине неуютно. В общем-то он слабо интересовался реальной американской жизнью, от которой его достаточно надежно отгораживали стены профессорского кабинета, облюбованного еще с юности. Несколько десятилетий Лонгфелло занимал в Гарвардском университете кафедру новых языков, зарекомендовав себя блестящим знатоком европейской поэзии, в особенности романтической. Окружали его по преимуществу люди, для которых такая вот кабинетная жизнь и примерно тот же круг интересов были естественной нормой существования. В Америке их прозвали «браминами». Отчасти почтительно. Отчасти насмешливо.
Резоны были и для поклонения, и для иронии. Заветной идеей бостонских литераторов, признавших Лонгфелло своим лидером, неизменно оставалась американская культура, ни в чем не уступающая европейской. И они честно служили делу, которое почитали жизненно важным. Принимаясь писать, обычно видели перед собой какой-нибудь прославленный классический образец — Шекспира или Гете, Мильтона или Сервантеса. Старались в собственных произведениях не уронить достоинства модели, которой прилежно следовали. А еще чаще удовлетворялись скромной ролью переводчиков и эссеистов, разъясняющих непосвященным величие чужих художественных свершений.
Все эти усилия не пропали втуне. Просветительская миссия,
которую «брамины» на себя возложили, им несомненно удавалась. Сложнее обстояло дело с попытками подобным способом построить национальную культуру. То, что в нее вносили писатели этой ориентации, страдало явной вторичностью, нередко — явным худосочием. В их книгах, за очень редкими исключениями, не чувствовалось живой Америки. Понять и запечатлеть ее выпало другим — Уитмену, Твену.
Однако Лонгфелло и его литературные единомышленники этого не осознавали. С юности пропитавшись романтическими настроениями и сугубо книжными образами, они сохранили верность однажды избранной позиции и через много лет, когда она уже с очевидностью обрекала своих приверженцев на бескрылый академизм, а то и плоское эпигонство. Нельзя было творить, отворачиваясь от жизни только по той причине, что она прозаична и груба.
Конечно, тут был и своего рода вызов пошлым понятиям и нравам времени, когда буржуазность справляла свое пышное торжество. Но выражалось это неприятие эпохи в формах иной раз поистине удивительных. В 1859 году Джон Браун, ненавидевший рабство, поднял восстание, явившееся прологом Гражданской войны. Мятеж был подавлен. Брауна схватили и повесили. Его трагедия потрясла американское общество. И не только американское. Гюго с другого берега Атлантики подал свой голос в защиту мученика свободы. А Лонгфелло? В дневнике о Брауне он пишет с восторгом и состраданием. Но не в стихах. Как поэта его не взволновали события, о которых говорили все. Лонгфелло недавно закончил новую историческую поэму, и теперь его интересовало одно: удалось ли разрешить в свою пользу давний спор с Эдгаром По насчет возможности гекзаметра в английском стихосложении.
Как это для него типично! На торжественном акте по случаю окончания колледжа, где он впоследствии будет читать лекции, восемнадцатилетний Лонгфелло произнес речь, под которой мог бы подписаться и десятилетия спустя. Он мечтал о том, чтобы и «нашим отечественным писателям» принадлежала пальмовая ветвь. Он задавался патетическими вопросами: «Должна ли наша страна стать страной песни? Будет ли она когда.-нибудь вызывать романтические ассоциации? Станет ли поэзия... и на нашей земле дышать тем очарованием, которым дышит на островах Греции?» Лонгфелло страстно верил, что его грезы осуществятся. Да не так уж много для этого и требовалось. В сущности, только одно: чтобы «страна великих умов» сделалась и «страной великих усилий».
Таким вот усилиям окажется посвящена вся его долгая жизнь. Она не предоставит готового сюжета творцам захватывающих биографических романов. Потрясений, звездных часов — всего этого в ней почти нет. По крайней мере они тщательно скрыты от посторонних. Любопытствующие не обнаружат ничего, кроме будней профессора, регулярно перемежаемых длительными поездками в Европу и расцвеченных разнообразными почестями, которые Лонгфелло оказывали университеты и академии всего мира — в том числе и петербургская академия, избравшая его своим иностранным членом в 1872 году.
После «Песни о Гайавате», появившейся за семнадцать лет до этого события и сразу признанной великим произведением, он, правда, оставил преподавание, но это не переменило ни стиля, ни распорядка его бытия. По-прежнему в окнах особняка, где некогда жил первый американский президент Джордж Вашингтон, долго теплился свет рабочей лампы, а книги Лонгфелло — его переводы, подготовленные им антологии — все так же выходили что ни год, приумножая и без того громкую известность. С исчерпывающей точностью сказал о нем Бунин: «Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному». Современники оценили это служение. 75-летний юбилей поэта, отпразднованный за две недели до его смерти, сделался поистине национальным торжеством — случай, кажется, уникальный за всю историю Америки.
Тем удивительнее, как быстро все это было забыто. Уже для поэтов, начинавших на рубеже веков, Лонгфелло воплощал главным образом дух робости перед общепризнанными шедеврами и
косность художественных принципов. Последующее отношение к его творчеству оказалось еще более скептичным. Вплоть до того, что Лонгфелло объявляли всего лишь плоским имитатором, у которого нет ни собственных идей, ни своих образов, зато в избытке развился навык подражательства заезженным мотивам романтиков.
У него не находили ничего, кроме отголосков. И разве сам он не сказал о себе -— ну хотя бы вот в этих строках из «Путешествия у камина» — как о писателе, который живет литературой, но не действительностью и совершает путешествия только вдоль книжных полок, освещаемых огоньком камина:
Иных манят пустынь пески,
Скитанья в вечных льдах...
А мне —движением руки
Открыт весь мир в стихах.
Нельзя сказать, что упреки, которые адресовались Лонгфелло, только дым без огня. И все же в них сквозит явная пристрастность. Время, конечно, заставило сдержаннее оценить многие его стихи, первым читателям казавшиеся великой поэзией, но время убедило и в том, что это был поэт, чьи лучшие произведения навсегда останутся в золотом фонде не только американской литературы, а всей мировой романтической лирики.
В каком-то смысле столетие, минувшее со дня смерти Лонгфелло, даже помогло увидеть действительное значение его книг так, как этого не постигали современники. Прежде всего значение «Песни о Гайавате». Она поразила необыкновенной свежестью метафор, пришедших из мало кому известных преданий индейских племен, и своей созвучностью великим эпическим поэмам — «Эдде», «Калевале». Поэтический язык «Гайаваты» зачаровывал своей плавностью, созданные здесь картины увлекали безукоризненностью выдержанного исторического колорита и высокой простотой, какой требовал сам предмет.
На фоне банальных романов про краснокожих поэма выигрывала тем что в ней не было опереточных эффектов, а индейцы не выглядели вполне условными персонажами, призванными только оживлять фон, на котором разворачивается приключенческий сюжет. Лонгфелло добивался другого впечатления. Он хотел воссоздать уже почти исчезнувший мир американской старины, когда на просторных землях, лежащих по берегам «Верхнего Озера, между Живописными Скалами и Великими Песками» царила жизнь, столь несхожая с деляческой повседневностью того времени, в какое выпало жить самому поэту. Он верил, что сохранившиеся от того времени «сказки и легенды с их лесным благоуханьем» исполнены глубокого нравственного смысла. Ведь в них главенствует ощущение единства человека и природы, утраченное ныне чувство органичности бытия, его одухотворенности, его цельности.
Читая «Песнь о Гайавате», мы и сегодня сразу распознаем тот особый пленительный «запах первобытных лесов», о котором восторженно писал Бунин. Это, если продолжить бунинскую мысль, поистине «замечательное воспроизведение природы и человеческой жизни» — во всей ее протяженности, в ее поэтичных озарениях и драматических перипетиях. Сказка? В немалой мере, конечно, так. Лонгфелло использовал записи крупного этнографа Скулкрафта, много лет прожившего среди оджибуэев, и, следуя законам мифологической поэзии, не стремился к житейской достоверности — для мифа она безразлична, миф имеет дело с вечным и чудесным. Только теперь можно оценить, как много значило для культуры само обращение к чистым родникам индейской фольклорной образности, к этим россыпям необычных метафор, в которых запечатлено миропонимание коренных жителей Америки. Зная романы Астуриаса, Гарсиа Маркеса и других современных латиноамериканских писателей, мы ясно представляем себе, какое богатство открыл литературе Лонгфелло.
Пусть сам он не сумел воспользоваться этим богатством в полной мере, напрасно добавляя к индейским преданиям отзвуки античных мифов об Антее и Геракле, что привело не к синтезу, а скорее к эклектике. Пусть финальный эпизод поэмы, когда Гай-авата радостно приветствует христианского миссионера, с очевидностью противоречит исторической истине. В конечном счете все это не самое главное. Бунин в предисловии к своему переводу «Гайаваты» справедливо говорил о «редкой красоте художественных образов и картин в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением». Этой оценки не изменили никакие последующие переосмысления найденных Лонгфелло — точнее, перенесенных им из фольклора в литературу — мотивов.
А о «гуманном настроении», которым проникнута поэма, следует сказать особо. «Песнь о Гайавате» — это великий гимн миру. Ее герой, который выступает в сказаниях индейцев под различными именами, наделен многими прекрасными чертами, но, как бы ни варьировался сопряженный с ним сюжет, этот герой обязательно заключает в себе идею преодоления всяческой розни, отказа от распрей и войн во имя мирного труда на щедрой земле, которой хватит всем, лишь бы люди сумели разумно устроить свою жизнь. И не так важно, что для Лонгфелло эта мысль определяющей скорее всего не являлась. Существенно, что такой ее сделала реальность нашего века.
Предвидеть этого Лонгфелло не мог и за «Гайавату» взялся оттого, что его захватила поэзия древних легенд, аромат бесконечно далекой, но все еще о себе напоминающей эпохи. Подобная атмосфера была благотворна для его лиры. Текущее редко побуждало ее зазвучать во всю силу, и Лонгфелло упорно возвращался к воспоминаниям о давно прошедшем. В его стихах снова и снова возникает одна и та же тема — необратимость времени. Разумеется, она не нова в мировой поэзии. Однако у Лонгфелло она наполнена особым лирическим содержанием.
Он писал об Америке, где белые люди еще в диковинку, и о башнях средневекового Брюгге, помнящих сражения освободительной войны фламандцев против испанской метрополии, писал о викингах, о скальдах, о заброшенных кладбищах с их смешеньем стран и судеб, о тенях прошлого, которые продолжали жить в этой поэтической вселенной так, словно забвение над ними не властно. Тут было общее всем романтикам стремление отойти от прозаизма окружающего мира, отдавшись фантазии, легко преодолевающей столетия и пространства. Но было и нечто специфичное, чисто американское — резкость контраста, когда все убыстряющиеся, механические ритмы действительности особенно наглядно, и даже драматически, не совпадают с ритмикой природы, духовной жизни, памяти, воображения, оказываются чужеродными всей сложной системе связей, которая создает человеческую индивидуальность, признающую лишь свои законы восприятия и переживания мира — каждый раз неповторимые. В Америке, где реальность менялась куда более бурно, чем на европейских берегах Атлантики, и куда стремительнее принимала обезличенный характер, такого рода несовпадения, таящие в себе драму, выступали с необычайной рельефностью. И каждый крупный американский поэт прошлого века, идет ли речь об Эдгаре По, Уолте Уитмене или Эмили Дикинсон, по-своему коснулся этой болезненной коллизии, нашел собственные слова, чтобы ее воплотить.
В Лонгфелло часто видят только искусного пейзажиста или творца безукоризненных по форме сонетов, проникнутых ностальгическим томлением по утраченной юности —и собственной юности, и той весне человечества, которая ему подарила великих мыслителей, художников, поэтов. Но гораздо точнее читать наиболее значительные его стихотворения как философскую лирику, в которой одиночество отнюдь не воспевается, а только осознается как неизбежное душевное состояние людей, органически неспособных жить принятыми стандартными представлениями, духовно оскопляя самих себя.
Здесь у Лонгфелло оказывается немало общего с Эдгаром По, хоть они были литературными антагонистами, когда дело касалось частных проблем поэзии. И общность не случайна, потому что оба оставались, пожалуй, самыми последовательными романтиками, каких выдвинула американская литература. С истинным положением вещей в заокеанской республике романтическое умонастроение не согласовывалось чем дальше, тем больше. Скорбные интонации, усиливающиеся с каждой новой книгой, и поиски какой-то внеземной гармонии или попытки перенестись в отдаленный эпохами и расстояниями мир совсем иной жизни — все это было закономерным. Но не создавало да и не могло создать желанного чувства побежденной, преодоленной дисгармоничности бытия.
У По, раз за разом в этом удостоверявшегося, невозможность защититься искусством от пошлости окружающего порождала отчаяние, у Лонгфелло — только сдержанную грусть и жажду отгородиться от реальности, уйти в себя, отдаться чистому созерцанию. Для поэзии Лонгфелло подобная замкнутость имела двойственные последствия, придав ей нередко слишком опознаваемые черты камерного, а то и сугубо книжного миросозерцания, но, с другой стороны, обострив, доведя почти до мыслимого предела способность сердцем слушать музыку природы и вечное биение жизни, дар тонкого наблюдения и душевного сопереживания — то, что в его лирике осталось непреходящим:
Мне надо, чтоб дума поэта
В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние хлынув
Иль жаркие слезы из глаз.
Поэт же и днем за работой
И ночью в тревожной тиши
Все сердцем бы музыку слушал
Из чутких потемок души...
Может быть, останься Лонгфелло лишь автором этого вот стихотворения, подарившего — в переложении И. Анненско-го — русскому поэтическому переводу одну из его жемчужин, его имя уже сохранилось бы в анналах мировой лирики. Но он был и автором «Гайаваты», «Постройки корабля», цикла «Стихов о рабстве», сонетов из последних сборников, он был поэтом из тех, над кем не имеют власти перепады литературной моды, потому что такие поэты принадлежат вечности.
А. Зверев
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан