Раздел ХРК-463-464
В.А. СЛЕПЦОВ
СОЧИНЕНИЯ в двух томах
Оформление художника М. ЭЛЬЦУФЕНА
Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Корнея Чуковского
Государственное издательство ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1957

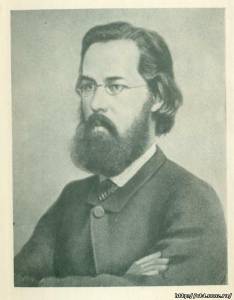
В.А. СЛЕПЦОВ
СОЧИНЕНИЯ в двух томах том I
Государственное издательство ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1957
Содержание:
В. А. Слепцов, его жизнь и творчество. Корней Чуковский
РАССКАЗЫ И СЦЕНЫ
Уличные сцены
На железной дороге
Вечер
Спевка
Сцены в больнице
Питомка
Ночлег
Свиньи
Мертвое тело
Рыболовы
Сцены в полиции
Сцены у мирового судьи
ОЧЕРКИ
На выставке
Владимирка и Клязьма
От редактора
Комментарии
В.А. СЛЕПЦОВ
СОЧИНЕНИЯ в двух томах том II
Государственное издательство ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1957
Содержание:
Трудное время
Письма об Осташкове
Публицистика
Из «Записок метафизика»
Попытки народной журналистики
Петербургские заметки
Скромные упражнения
Приложение
Хороший человек
Комментарии
Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать
***
В. А. СЛЕПЦОВ, ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
1
Все авторы воспоминаний о Слепцове, словно сговорившись друг с другом, в один голос сообщают читателям какой это был необыкновенный красавец и сколько изящества было в его красоте.
«Наружность у Слепцова была очень эффектная и отличалась изяществом, —пишет, например, А. Я. Панаева, —у него были великолепные черные волосы, небольшая борода, тонкие и правильные черты лица; когда он улыбался, то видны были необыкновенной белизны зубы... Он был высок, строен...»1
«Все оставшиеся после него портреты,— говорит Скабичевский,— не передают и в сотой доле его красоты, замечательной всем ансамблем стройно изящной, гибкой фигуры, непередаваемою игрою души в тонких чертах его лица...»2
Петр Быков вспоминает, что, когда во время пребывания в Москве Слепцов явился однажды в судебную камеру, чтобы послушать какое-то дело, отовсюду сбежались дамы полюбоваться его красотой3.
Таким же изяществом, по единодушному свидетельству его современников, отличалась и та обстановка, которая окружала его.
1 А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания,М. 1956 стр 329
2 А. М, Скабичевск и й История новейшей русской литеоа-туры 1848-1898 гг., изд. 4-е, СПБ. 1900, стр. 211. Р
3 См. П. В. Б ы к о в, Силуэты далекого прошлого, М —Л 1930 стр. 181—182.
«Я,— вспоминает Е. Н. Водовозова,— принялась разглядывать его комнату, убранную с большим вкусом. Все письменные принадлежности были чрезвычайно изящны: чернильница, пресс-папье, портфель, подсвечники, всевозможные ножички, ваза с красивым букетом; столики и этажерки были уставлены красивыми безделушками и портретами в рамках»
Обыкновенно такие привычки и вкусы свойственны богатым эстетам, тратящим немалые деньги на убранство своих жилищ. Слепцов же, до конца жизни не выходивший из тяжкой нужды, никогда не имевший ни гроша на завтрашний день, все свои пресс-папье и портфели выделывал сам, так как руки у него были талантливые и с удивительной легкостью изготовляли всевозможные изящные вещи. «Он мог сделать все, что угодно,— сообщает Авдотья Панаева,— и так хорошо, точно несколько лет обучался этому мастерству» 2.
По словам Панаевой, он с таким искусством обшил новой тесьмой свой старый пиджак, что какой-то столичный портной, восхищенный его дарованием, стал приглашать его к себе в подмастерья.
Когда вышибленный из литературы Слепцов был вынужден искать себе заработка в провинции, он написал своей приятельнице В. 3. Ворониной, чтобы та нашла ему работу в Тамбове по любой специальности: «Вы можете припомнить хоть некоторые из моих многосторонних способностей и разнообразных занятий, напр.: слесарь, столяр, портной, механик, лепщик, рисовальщик, резчик, маляр...» (1866) 3.
В другом письме к ней же он пишет: «По случаю обносившейся обуви я принялся чинить сапоги и очень успешно с помощью старых дамских башмаков реставрировал свои ботинки» (1867) 4.
Таким образом, безденежье нисколько не мешало Слепцову культивировать изящные вкусы. «До чего ни дотрагивалась его художественная рука,— говорит Скабичевский,— всему он умел придавать изящный вид и был способен при случае украсить комнату пустяками, вроде каких-нибудь еловых шишек...»5
«Случалось,— сообщает тот же писатель,— что, идя мимо Милю-
1 «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 115.
2 А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, М. 1956, стр. 340.
3 К. И. Чуковский, Люди и книги шестидесятых годов, Л. 1934, стр. 298.
♦Там же, стр. 164.
5 А. М. С к а б,и ч е в с к и й, Литературные воспоминания, М.—Л. 1924, стр. 230—231,
тиных лавок, он [Слепцов] увлекался каким-нибудь необыкновенным изящным яблочком и покупал его, но не для того, чтобы тотчас же съесть, а положить на письменный стол и любоваться его красотою» !.
Тяготение Слепцова к изяществу сказалось не только в его подсвечниках и рамочках, но почти во всех его писаниях, которые по стройности своей композиции, по тонкой обработке деталей стоят особняком в беллетристике шестидесятых годов.
Такие очерки, как «Спевка», «Питомка», «Ночлег», обточены у него словно на токарном станке. Соразмерность частей, отсутствие ненужных подробностей, исполненное безупречного вкуса воспроизведение простонародного говора — все это делает слепцовские очерки наиболее изящными из всех «коротких рассказов» предчеховского периода. Свою «Владимирку и Клязьму» он писал буквально на ходу, во время пешего хождения из Москвы во Владимир, а между тем, несмотря на кажущуюся хаотичность, она так же стройна, лаконична, художественна, как и другие наиболее зрелые произведения Слепцова.
Конечно, изящество его внешнего облика, его манер и привычек не бросилось бы в глаза никому, если бы он был, например, адъютантом в каком-нибудь кавалерийском полку. Но в том-то и дело, что смолоду он добровольно отверг всякие соблазны доступной ему блестящей военной карьеры и стал литературным пролетарием и всем своим творчеством, всей своей полуголодной, неприкаянной жизнью доказал искренность своего перехода в лагерь боевой демократии шестидесятых годов.
Нам и до сих пор неизвестен тот путь, который привел Слепцова в демократический лагерь. Его детские годы были совсем не такие, как у других писателей-демократов той великой эпохи. Отец его был не пономарь, не дьячок, а полковник, столбовой дворянин, состоятельный саратовский помещик. Его мать была родом шляхтянка, очень гордившаяся своими именитыми предками. Его деды были генералы, его бабка была баронесса. В то самое время, когда Помяловского, Николая Успенского, Воронова нещадно драли их учителя и наставники, его никто и пальцем не тронул, когда он учился в привилегированной московской гимназии. Французским и немецким языками он с детства владел как родными. Всем он казался в ту пору благо-
1 А. М. Скабичевский, История новейшей русской литературы 1848—1898 гг., изд. 4-е, СПБ. 1900, стр. 212.
нравным ребенком, и его мать, Жозефина Антоновна, урожденная Вельбутович-Паплонская, в своих честолюбивых мечтах видела его блестящим офицером драгунского или уланского полка. В семье были сильны военные традиции. Отец писателя, Алексей Васильевич Слепцов, участвовал в турецкой и польской кампаниях, а потом перешел в один из драгунских полков, стоявший тогда в Воронеже. Там-то и родился писатель 17 июля 1836 года. .Через год его семья поселилась в Москве, где он провел свое детство, потом три-четыре года прожил в саратовской деревне отца, а на пятнадцатом году его отдали в Пензенский дворянский институт, откуда была прямая дорога на военную службу —к чинам и отличиям.
Вначале мальчик зарекомендовал себя примерным воспитанником, но, очевидно, уже тогда у него зародились какие-то «опасные» мысли, совершенно несвойственные той социальной среде, которая взрастила его. J1. Ф. Маклакова 1 передавала мне со слов его матери, что в 1853 году он совершил один неслыханно дерзкий поступок, который сразу обнаружил перед всеми, что уже в ту раннюю пору он в своей семье отщепенец.
Во время обедни, в переполненной институтской церкви, когда пели «Верую во единого бога», он внезапно взошел на амвон и сказал:
— А я не верую!
И можно себе представить, как были ошеломлены таким кощунством священник, директор института, педагоги, студенты, молящиеся.
Преступника схватили, увели, наказали и, в виде особой милости, исключили из института, не предавая суду.
Его мать была в отчаянии: так безумно погубить свою карьеру! Вообще с той поры для нее начались огорчения. Этот случай ясно показал, какие пылкие страсти кипят в ее благовоспитанном сыне и как он героически смел, когда дело доходит до его убеждений. Его допрашивали, зачем он кричал на амвоне о своем неверии в бога; он учтиво объяснил, что ему хотелось проверить на опыте, существует ли бог, и что он считает свой опыт удавшимся, так как бог непременно убил бы его, если бы существовал в самом деле.
1 Лидия Филипповна Маклакова. жена Слепцова, беллетристка, печатавшаяся под псевдонимом Л. Нелидова; написала повесть из его жизни (до сих пор неопубликованную) и там приводит этот эпизод. Брат писателя тоже говорит о каком-то церковном скандале: будто мальчик Слепцов, желая уйти из института, стал симулировать тихое помешательство и нарочно перепутал в алтаре одежды попа и диакона («Исторический вестник», 1903, № 3, стр. 966).
Из института его исключили в 1853 году, во время русско-турецкой войны. Родные захотели определить его в действующую армию. Поначалу он как будто и сам был не прочь стать военным, но вскоре изменил намерение, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет, наиболее ценимый тогдашней недворянской молодежью.
Через год он охладел к медицине, страстно увлекся театром и, опять-таки к великому огорчению матери, поступил на сцену в Ярославский театр в качестве первого комика, но, не прослужив и сезона, бросил сцену, вернулся в Москву.
Частая перемена профессий и мест — тоже характерная черта его личности. «Слепцов, при всех своих способностях, был чрезвычайно непостоянен в своих увлечениях и постоянно менял свои занятия и свой образ жизни,— вспоминает о нем его брат.— Эта неустойчивость и постоянное искание чего-нибудь нового рельефно выразились в его вечных скитаниях с одного места на другое, от одного занятия к другому»Впрочем, не следует думать, что это было его личной особенностью: такими же скитальцами были все его литературные сверстники, разночинцы шестидесятых годов: Левитов, Николай Успенский, Решетников.
В 1856 году он женился на дочери одного тверского помещика, но брак был несчастлив, и они разошлись. Мы не знаем, с какого времени он начал усваивать ту идеологию боевых разночинцев, которая впоследствии сказалась в его сочинениях; в 1860 году мы видим его в «якобинском» салоне писательницы Евгении Тур (графини Е. В. Салиас де Турнемир). Он близко сходится с ее сыном Евгением, оппозиционно настроенным юношей, который через год, как известно, принял участие в московском студенческом «бунте». Товарищи Салиаса были горячие головы (Кельсиев, Покровский, Аргиро-пуло); двадцатичетырехлетний Слепцов сильно увлекся их боевыми идеями. Конечно, «якобинство» московской графини было наносное и фальшивое. Впоследствии, сделавшись писателем, Слепцов показал, как ненавистен ему этот фразистый либерализм дворянской формации. Сам он к тому времени уже безоглядно «ушел в разночинцы». В этом не было ничего необычного. После Крымской войны, обнаружившей всю гнилость феодального строя, лучшие представители передового дворянства вступали на путь революционной борьбы.
Осенью 1860 года Слепцов, по поручению Географического общества отправился пешком в деревенскую глушь собирать народные пословицы, песни и сказки, чтобы потом напечатать их в спёциаль-
1 «Исторический вестник», 1903, № 3, стр. 966.
ном издании. К этому побуждал его В. И. Даль, знаменитый исследователь великорусского живого языка. Слепцов был знатоком в этой области и сам любил исполнять (особенно в кругу молодежи) народные песни. Но после первых же дорожных впечатлений он и думать забыл о пословицах, песнях и сказках и принялся изучать мучительно тяжелую жизнь тамошних крестьян и рабочих.
С зонтиком в руке, весь увешанный самодельными мешками и сумочками, чрезвычайно изящными, но, как вскоре оказалось, ненужными, он вышел за Рогожскую заставу и зашагал по знаменитой «проторенной цепями» Владимирке. В лицо ему дул пронзительный октябрьский ветер, сбивая с ног и обдавая пылью. В первой же подмосковной деревне он направился прямо к попу, разбудил его и скороговоркой спросил, как живется рабочему люду на соседних Ивановских фабриках. Тот долго спросонья безмолвствовал, а когда заговорил, то лишь затем, чтобы выпроводить незваного гостя за дверь.
Гость не обиделся и, вежливо поклонившись попу, отправился на ближайшую фабрику, где с такой же прелестной учтивостью спросил у ее хозяина, как велика прибавочная стоимость, которую тот выжимает из подвластных ему рабочих. Хозяин фабрики, по примеру попа, немедленно выставил молодого человека за дверь, но молодой человек не обиделся, а пошел к другим фабрикантам и всюду задавал один и тот же вопрос. Ответ, конечно, получался везде одинаковый.
Пробираясь пешком от деревни к деревне. Слепцов наконец дошел до тех мест, где производилась постройка Московско-Нижегородской железной дороги. Здесь он, как въедливый следователь, принялся собирать материалы для обвинительного акта против организаторов и руководителей этой постройки, разоблачая ту систему узаконенных подлостей, при помощи которой эти люди эксплуатируют крестьян и рабочих, и установил очень четко, что дело здесь не в отдельных грабителях, а во всем государственном строе.
Так создались его.очерки «Владимирка и Клязьма», которые он напечатал в 1861 году в малоизвестном либеральном журнальчике «Русская речь», издававшемся той же Евгенией Тур.
Уже здесь, в его первом произведении, сказался тот художественный метод, которому он был верен всю жизнь: он нигде не морализирует, нигде не высказывает своих гневных или горестных чувств, он как будто только о том и заботится, чтобы без всякой тенденции зарисовать для читателя все, что ни встретится ему на дороге, но из этих зарисовок, казалось бы таких случайных и мелких, словно сама собою, словно помимо его авторской воли, слагается картйна чудовищного разорения, голода, холода, рабства, болезней, насилий, обид. А сам автор при этом как будто стоит в стороне, как будто и не догадывается, что все изображенное им побуждает к борьбе и протесту.
В этих путевых заметках Слепцов показал себя одним из больших мастеров того трудного жанра, который называется очерком. Слепцов-очеркист и до сих пор не оценен по-достоинству. Его очерки и посейчас остаются зачастую неведомыми даже для историков этого литературного жанра.
«Русская речь» была на первых порах органом московской профессуры: в ней печатались ученые труды таких профессоров, как Буслаев, Афанасьев, С. Соловьев. Это не помешало ей вскоре оказать гостеприимство мракобесу де Пуле, совершавшему свои очередные наскоки на Добролюбова и на всю передовую печать. Правда, наряду с этим та же «Русская речь» ратовала за воскресные школы, за эмансипацию женщин, за улучшение быта ремесленников, но все же слепцовские очерки шли вразрез с ее умеренно-либеральной программой. Даже странно читать на ее столбцах язвительный очерк «На выставке», где он с таким сарказмом обличает пустоголовость и праздность так называемого «высшего общества».
Вскоре ему стало ясно, что «Русская речь» для него неподходящая трибуна. Порвав с этим журналом, Слепцов осенью 1861 года поспешил в Петербург и там среди революционно настроенной молодежи шестидесятых годов почувствовал себя в своей атмосфере.
Он познакомился с Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Чернышевским и был принят ими как желанный сотрудник. Думается, что Некрасов особенно высоко оценил его очерки, посвященные постройке Московско-Нижегородской железной дороги: когда читаешь 'эти очерки, трудно отрешиться от мысли, что через несколько лет они в какой-то мере нашли отражение в некрасовской «Железной дороге»,— особенно та насыщенная сдержанным гневом глава, где изображаются грабительские махинации подрядчиков.
Было решено, что Слепцов даст «Современнику» такую же серию очерков, где будет нанесен еще один сильный удар по основному догмату дворянского либерализма: будто в губительных условиях самодержавного строя возможно хоть какое-нибудь мирное улучшение народного быта. Темой этих обличительных очерков был намечен рекламируемый либералами город Осташков. Газеты в то время кричали о его высокой культурности, о его банке, библиотеке, театре, детских яслях и женской гимназии. Считалось, что своей несравненной культурностью Осташков обязан благодетельному усердию местного купца-фабриканта, которого хором прославляла вся либеральная пресса.
Слепцов побывал в Осташкове, досконально изучил «достижения» его хваленой «культуры» и в ряде блистательно написанных очерков доказал, что эта культура есть в сущности дешевая и никуда не годная ширма, за которой несколько ловких дельцов скрывают свою кровососную деятельность.
«Письма об Осташкове» появились в «Современнике» 1862— 1863 гг. и вызвали большое сочувствие в читательских массах. Слепцов сразу выдвинулся в первые ряды литераторов как лучший очеркист своего времени: в этих «Письмах» глубокий анализ социальных явлений сочетается с изящною живописью и мягким обаятельным юмором.
Салтыков-Щедрин тогда же раскрыл в «Современнике» подлинный смысл этих якобы непритязательных «Писем». «По-видимому,— писал он,— там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особенных поползновений на статистику... Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут великий вздор о старинных монетах и жетонах; однако за всей этой непроходимой ахинеей читателю воочию сказывается живая жизнь целого города с его официальною приглаженностью и внутреннею неумытостью, с его официальным благосостоянием и внутреннею нищетЬю и придавленностью...» (Курсив наш.— К. Ч.)
Еще до того как в «Современнике» закончилось печатание осташковских писем, Слепцов выступил на столбцах обновленной «Северной пчелы» с тремя небольшими рассказами («На железной дороге», «Вечер» и «Уличные сцены»), где в полной мере проявилось замечательное его мастерство в воспроизведении всевозможных оттенков простонародного говора. В обоих рассказах был легко уловимый оппозиционный подтекст.
Но «Северная пчела», одно время заигрывавшая с передовой молодежью, вскоре сильно шарахнулась вправо, и Слепцов счел необходимым порвать с этой газетой. По приглашению Некрасова он тогда же окончательно перешел в «Современник» и с 1862 года сделался его ближайшим и постоянным сотрудником. Но в 1862 году «Современник» был приостановлен,— и лишь весною следующего года стал выходить опять при ближайшем участии Слепцова. Работа плечом к плечу с Салтыковым-Щедриным и Некрасовым так окрылила молодого писателя, что он с удесятеренными силами отдался литературной работе. Никогда — ни раньше, ни потом — он не был так плодовит и активен. Редкая книга журнала в 1863 году выходила без его рассказа, статьи или очерка.
Вообще этот год — 1863 — был, так сказать, кульминацией его жизни и творчества, самой кипучей порой его деятельности. В этом году он написал и поместил в «Современнике» лучшие из всех своих рассказов: «Питомку», «Сцены в больнице», «Ночлег». Наиболее яркие из всех его журнальных статей тоже написаны в 1863 году.
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Поли. собр. соч., т. V, М. 1937, стр. 223.
Замечательно, что большинство воспоминаний о нем — и Скабичевского, и Екатерины Жуковской, и Авдотьи Панаевой, и Николая Успенского, и многих других — тоже относятся к этому году, так как именно тогда, в тот короткий период, он сделался одной из самых заметных фигур Петербурга, особенно среди передовой молодежи. Студенты наперерыв приглашали его на свои вечеринки, где он великолепно играл на гармонике, пел народные песни, читал свою «Питомку» и «Спевку» — в сущности не читал, а разыгрывал в лицах, так как обладал незаурядным актерским талантом. Но, конечно, не в этом был пафос его тогдашней хлопотливой и лихорадочной деятельности: с обычной своей энергией он включился в борьбу за эмансипацию женщин и отдал этой борьбе много сил.
«Женский вопрос» был в то время вопрос боевой и жгучий. Разночинная молодежь шестидесятых годов выдвинула небывалое множество женщин, вырвавшихся из плена ветхозаветной семьи. Они приезжали из дальних захолустий с неопределенным стремлением— «работать, учиться», но у них не было ии опыта, ни знаний, ни привычки к труду. Охранители старорусских устоев ненавидели этих «нигилисток», издевались над их неумелостью, и революционные демократы, считая, что борьба за раскрепощение женщин тесно связана с борьбой за раскрепощение народа, пытались оказать им посильную организационную помощь.
Во главе «женского движения» в ту пору стояли замечательные русские женщины — Надежда Васильевна Стасова, сестра знаменитого критика, Мария Васильевна Трубникова, дочь декабриста Ива-щева, и Анна Николаевна Энгельгардт, переводчица, жена известного публициста и химика. Вокруг них сплотились десятки таких же энтузиасток-общественниц. Они основали и «Общество переводчиц», и «Артель издательниц», и многие другие «предприятия» для оказания помощи интеллигентным трудящимся женщинам. С ними-то и сблизился в ту пору Слепцов. В том же 1863 году он стал с увлечением участвовать во всех их делах и затеях: обучал женщин переплетному делу, читал им научно-популярные лекции, помогал им в их литературных начинаниях, устраивал в пользу их артелей и обществ концерты, вечера и спектакли и т. д. Мудрено ли, что в самое короткое время он стал в этих петербургских кругах одним из популярнейших поборников «женского дела».
«Он не искал популярности,— вспоминает Е. Водовозова,— она сама пришла к нему и была результатом той неутомимой деятельности, с какою он проводил в жизнь идеи шестидесятых годов и особенно идею женской эмансипации. Он находил, что женАина в русском обществе самое обездоленное существо, и отдавал все силы своих богатых способностей, чтобы помочь ей выйти на самостоятельную дорогу»
Каждый день у него были новые планы: основать бюро приискания работы для женщин, открыть для них контору переписки бумаг, наладить артель типографских наборщиц и прочее.
Осенью того же года под влиянием романа «Что делать?», который только что появился в печати, он устроил в Петербурге на Знаменской улице общежитие для кружка молодежи, вскоре получившее известность под именем Знаменской или Слепцовской коммуны. Таких коммун было много в то время, особенно в Москве и в Петербурге.
На первых порах он придавал своей коммуне большое значение и, выполняя завет Чернышевского, намеревался ввести в нее производственный труд, чтобы таким образом мало-помалу превратить ее в нечто вроде социалистического фаланстера Фурье.
Но коммуна не удалась, как вообще не могли удасться никакие коммуны в феодально-капиталистическом обществе. Ее жильцы принадлежали к различным социальным слоям: наряду с подлинными «нигилистами» там поселились «нигилисты» поддельные, либералы из зажиточных помещичьих кругов, вследствие чего между ними начались нелады и к концу сезона коммуна распалась.
Устройство Знаменской коммуны считается чуть ли не главным событием во всей биографии Слепцова. Нет, кажется, таких мемуаров о нем, где не упоминалось бы об этой коммуне. Ее не раз изображали в беллетристике — и Лесков, \ и Всеволод Крестовский, и граф Салиас, и другие. Столько же чрезмерного внимания уделялось в мемуарной литературе его участию в так называемом «женском вопросе».
Но если бы мы захотели на основании подобных источников узнать, что за человек был Слепцов и какие мотивы руководили тогда его неутомимою и разнообразною деятельностью, мы получили бы очень неверное представление о нем и о его роли в революционной борьбе шестидесятых годов.
Если судить по воспоминаниям Панаевой, можно подумать, что он был гуманистом либерального толка, обывательски добрым и жалостливым, склонным к самой пылкой филантропии.
1 «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 110.
А Скабичевский рисует его чуть ли не циником, холодным и черствым, не способным ни к каким увлечениям, надменно глумящимся над человеческим горем.
Между тем в нашем распоряжении есть ряд документов, достоверно освещающих его тогдашнюю деятельность, и нельзя не пожалеть, что до настоящего времени эти документы никем не учитывались. Если бы мы раньше ознакомились с ними, они положили бы конец кривотолкам о политической физиономии Слепцова и помогли бы понять самую суть его убеждений и взглядов, которая и в настоящее время все еще остается недостаточно выясненной.
Я говорю о его статьях в «Современнике», написанных в том же 1863 году и ныне совершенно забытых.
Статьи эти на поверхностный взгляд гораздо слабее его беллетристики и часто кажутся какими-то вымученными. Поэтому никто из писавших о его литературном наследии не обратил на них серьезного внимания. Их никогда не перепечатывали из старых журналов. Считалось, что они справедливо обречены на забвение, так как представляют собою самый заурядный журнальный балласт.
Но вот недавно, просматривая одну из этих забытых статей, я. к немалому своему удивлению, обнаружил в ней такие черты, каких не замечал до сих пор. Черты эти оказались так ярки и жизненны, что вся статья зазвучала по-новому. Стало очевидно, что она вся зашифрована, что, кроме явного смысла, в ней имеется тайный, и что, значит, для нас важен не ее текст, а подтекст. Текст может казаться и сумбурным И скучным, но подтекст волнует и сейчас, потому что он посвящен] самым острым вопросам той великой исторической эпохи.
Оказалось, что передо мною шедевр эзоповой речи, что эта небольшая статья, пренебреженная всеми исследователями, есть один из самых смелых революционных памфлетов, какие когда-либо появлялись в легальной печати шестидесятых годов.
Так как по самому своему существу эта погребенная в старом журнале статья является наилучшим ключом к раскрытию идейных позиций Слепцова, необходимо вникнуть в нее возможно внимательнее.
У статьи безобидный заголовок: «Петербургские заметки», и всякому, кто бегло перелистает ее, в самом деле может показаться, что вся она с начала до конца посвящена столичным увеселениям и празднествам. Чтобы окончательно уверить цензуру в невинном характере этой якобы фельетонной статейки, первая и единственная ее глава называется: «Весенняя прогулка с детьми по санктпетер-бургским улицам», словно речь идет о какой-то беззаботной экскурсии.
Маскировка оказалась удачной: цензура попала впросак, и статья Слепцова без всяких препон была напечатана в «Современнике» 1863 года — в знаменитой апрельской книжке, той самой, где «Что делать?» Чернышевского.
У книжки печальная дата: она появилась в то время, когда разгул реакции уже успел превратиться в террор. Уже который месяц продолжался поход, предпринятый правительством Александра II против тех бурных общественных сил, вызванных к жизни революционной ситуацией только что миновавшей эпохи. Еще весною предыдущего года полицейские агенты-провокаторы использовали петербургские пожары, чтобы объявить поджигателями студентов, «нигилистов», приверженцев Герцена — и натравить на них темные массы. Чернышевский и Михайлов уже были заключены в казематы. Польское восстание было подавлено, вокруг Муравьева-вешателя сплотились все реакционные силы. В деревнях свирепствовали розги. Вся передовая печать была приведена к молчанию: власти сперва приостановили на восемь месяцев «Современник» и «Русское слово», а потом подвергли их суровой цензуре.
И вот в это-то страшное время «Современник» Некрасова ставит перед собою задачу, почти невозможную: хотя бы с помощью эзоповой речи довести до читателей гневный чувства и мысли, вызванные мрачной победой правительства. За осуществление этой бесстрашной попытки берется двадцатисемилетний Слепцов, новый, но уже близкий сотрудник журнала. Искусно пользуясь целой системой недомолвок, иносказаний, намеков, он умудряется в когтях у цензуры заклеймить антинародную политику Александра II.
Для демократического читателя шестидесятых годов иносказания этой статьи были совершенно ясны, и, конечно, он с первых же слов понимал, что, говоря, например, об увеселительных заведениях столицы, Слепцов разумеет под ними весь аппарат государственной власти, а под канатными плясунами и балаганными клоунами — тогдашних «либеральных» министров: Валуева, Головнина и других, издавна носивших эти клички в тех кругах, к которым адресовалась статья. Вообще ее подтекст выражает глубочайшее презрение ко всем либеральным реформам правительства — к тем пресловутым «великим реформам», о которых казенная пресса назойливо и громко продолжала трубить как о гуманнейших деяниях царя.
Чтобы высказать свою уверенность в том, что «даруемые» народу реформы вызваны шкурными интересами правящих классов, которые учуяли опасность революционного взрыва, Слепцов говорит в своих «Петербургских заметках»: «...все эти колоссальные афиши, все эти сюрпризы и премии свидетельствуют только о том, что дела распорядителя очень порасстроились и требуют поправки» (курсив наш.— К. Ч.).
Равным образом стремясь довести до читателей, что даже этим мизерным реформам скоро придет конец, Слепцов иносказательно пишет: «...посетители не должны сомневаться в том, что наконец программа этих удовольствий когда-нибудь истощится... распорядитель праздника объявит почтеннейшей публике, что представление кончилось».
Чтобы разрушить в умах у читателей наивную веру, будто правительство и в самом деле обладает возможностью осуществить свою широковещательную программу гуманных реформ, Слепцов говорит: «...ни один акробат, ни один чародей не может сделать больше того, что он сделать может; и все, что они могли сделать, они уже давно сделали и нового ничего выдумать не могут».
И дальше — о полной бесплодности всех этих мнимых благодеяний правительства: «...здесь будут обольщать тебя музыкою, пением и ракетами; но будь тверд, ничего не бойся и помни, что с рассветом все это исчезнет, останутся только битые стекла и серный запах».
«Битые стекла» и «серный запах» — таков, по Слепцову, единственный результат всех административных забот о народе, возвещавшихся ракетами и фанфарами либеральной печати.
И дальше: желая указать, что в борьбе с революционным движением правительство опирается на целую армию шпионов и сыщиков, кишмя кишевших на всех перекрестках, Слепцов повествует о мальчике, который только и ждет, чтобы у витрины, где выставлен портрет Гарибальди, кто-нибудь простодушно сказал:
— Какая славная у этого Гарибальди борода!
Чуть мальчик услышит об этом, он пойдет к папаше и наябедничает:
— Такой-то сказал: «Славная борода у Гарибальди».
А папаша скажет: «Не пускать его гулять за это! Пусть сидит!»
То есть сидит в тюрьме, в Петропавловской крепости, куда именно в ту пору был заключен Чернышевский.
Дальше в статье Слепцова есть прямой намек на гражданскую казнь В. А. Обручева, происходившую в Петербурге на Мытной площади в 1862 году«Завернем,— пишет он,— на площадь, где гуляет народ... Здесь в настоящую минуту происходит нечто очень серьезное... Если бы я вам сказал, что здесь делается, то вы бы, верно, заплакали, но я не хочу вас огорчать. Что толку плакать?»
1 См. А. В. Н и к и т е н к о, Дневник в трех томах, т. 2, М. 1956, стр. 276-277.
--->>> |
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан