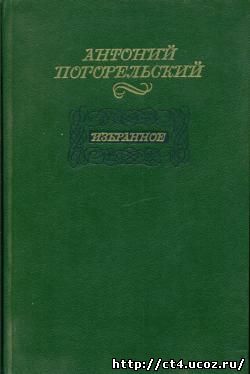Раздел ХРК-583
Антоний Погорельский (Алексей Алексеевич Перовский)
ИЗБРАННОЕ
Сост., вступ. ст. и примеч. М. А. Турьян
Оформ. М. К. Шевцова
Ил. Б. А. Гуревича.
— М.: Сов. Россия, 1985.—432 с., ил., 1 л. портр.
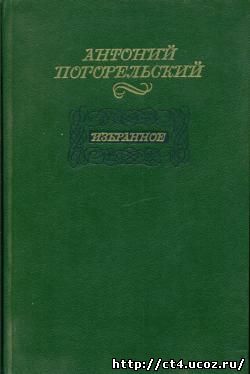
Аннотация
В однотомник известного русского писателя первой трети XIX века Л. Ilu-горельскогп (А. Л. Перовского) вошли ого оснопныс художественные произведения, аа исключением широко известной и неоднократно переиздававшейся сказки «Черной курица». Наряду с ужо знакомыми советскому читателю повестью «Двойник, или Мои вечера а Малороссии» и романом «Монастырка» в книгу включены избранные стихи, литературно-критические статьи и письма Погорельского.
Содержание
Жизнь и творчество Антония Погорельского. М. Турьян
ПРОЗА
Двойник, или Мои вечера в Малороссии
Часть первая Вечер первый Вечер второй Вечер третий
Часть вторая
Вечер четвертый Вечер пятый Вечер шестой
Монастырка
Часть первая
Глава I. Вместо предисловия
Глава II. Продолжение
Глава III. Отец Анюты
Глава IV. Тетушка и опекун
Глава V. Смольный монастырь и выпуск из оного
Глава VI. Возвращение в Малороссию
Глава VII. ЦЕТганский атаман
Глава VIII. Французский язык
Глава IX. Объяснение
Глава X. Смертоубийство
Глава XI. Примирение
Глава XII. Неудача
Часть вторая
Глава XIII. Неожиданное посещение
Глава XIV. Разлука
Глава XV.
Глава XVI. Принужденная разлука
Глава XVII. Завещание
Глава XVIII. Незнакомец
Глава XIX. Уединенный хутор
Глава XX. Побег
Глава XXI. Неожиданная встреча
Глава XXII. Всему на свете есть конец
Посетитель магика < С английского>
Магнетизер (Отрывок из нового романа)
Глава I
Глава II
СТИХОТВОРЕНИЯ
«Неёлов беспутный!..»
Послание к другу моему N. N., военному человеку
«Абдул визирь...»
Странник-певец
«Друг юности моей! Ты требуешь совета?..»
К Тиндариде
СТАТЬИ
Замечания на письмо к сочинителю критики на поэму «Руслан
и Людмила» (Письмо к издателю)
Замечания на разбор поэмы «Руслан и Людмила», напечатанный в 34, 35, 36 и 37 книжках «Сына отечества» (Письмо к издателю)
Ответ на скромный ответ г-па М. К-ва
ПИСЬМА
П. Л. Вяземскому 19 января 1810 г. Москва
П. А. Вяземскому 26 января 1810 г. Москва
П. Л. Вяземскому 26 февраля 1810 г. Владимир
П. А. Вяземскому 16 января 1812 г. Петербург
П. А. Вяземскому 9 февраля 1812 г. Петербург
А. К. Толстому 6 февраля 1825 г. Петербург
А. К. Толстому 26 июня 18'29 г. Петербург
А. К. Толстому 18 марта 1835 г. Петербург
А. К. Толстому 22 марта 1835 г. Москва
А. К. Толстому 27 марта 1835 г. Петербург
А. К. Толстому 4 апреля <1835> г. Петербург
А. К. Толстому 9 апрели 1834 г. Петербург
Л. С. Пушкину. Январь — первая половина февраля 1833 г.Петербург
Примечания
Если интересуемая информация не найдена, её можно ЗАКАЗАТЬ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АНТОНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО
Писатель Антоний Погорельский современному широкому читателю, пожалуй, едва знаком. Жизненная судьба Алексея Алексеевича Перовского — таково его настоящее имя — по скудости сохранившихся сведений известпа нам лишь в самых общих очертаниях: человек блестящий и всесторонне образованный, напоминавший прекрасным своим обликом и легкой хромотой Байрона, влиятельный сановник, друг Пушкина, Вяземского, Жуковского...
Углубляясь в историю литературы, в пору младенчества русской прозы, мы не раз обнаруживаем рядом с именем Погорельского слово «первый»: из-под его пера выходит первая русб1*ая фантастическая повесть, один из первых бытовых, «семейных» романов.
«Лучший из худших, то есть, если угодно, очень хороший писатель...» Эта парадоксальная оценка, принадлежащая Н. Г. Чернышевскому, относится к Антонию Погорельскому, стоявшему у истоков русской романтической прозы.
Писатель не очень усердный, можно сказать, рассеянный, творивший немного и неспешно, Погорельский тем не менее занял в литературе 1820—1830-х годов заметное место. Исследователи единодушно признают за ним ряд важных заслуг в развитии русской прозы «допушкинского» и «догоголевского» периода, в становлении и формировании романтического направления.
Литературное-наследие Погорельского невелико, однако и оно едва изучено. Архив его почти бесследно исчез, беспечно предоставленный писателем воле судьбы и игре случая. В последние годы жизни, совершенно оставив литературную деятельность, равнодушный к писательской славе, Погорельский мало о нем заботился. Как утверждает легенда, управляющий его имением, страстный гурман, извел бумаги своего патрона на любимое кушанье — котлеты в папильотках...
Вступив в литературу «карамзинистом», причастный затем пушкинскому кругу. Погорельский творчески продолжился не только в таких ближайших младших современниках, как Гоголь или В. Одоевский, но Н в значительной мере в следующем литературном поколении — прежде
3
всего в племяннике и воспитаннике своем Алексее Константиновиче Толстом, на творческое формирование которого он оказал немалое влиян ие.
Алексей Алексеевич Перовский родился в екатерининское царствование, в 1787 году. Он был внебрачным сыном графа Алексея Кирилловича Разумовского и «девицы» Марии Михайловны Соболевской. Союз этот оказался прочным: он длился до самой смерти Разумовского и дал многочисленное и яркое потомство. Самый род Разумовских отнюдь не мог похвастать древностью: лишь к середине восемнадцатого столетия он головокружительно вознесся из черниговских крестьян до первых приближенных двора и государственных деятелей благодаря благосклонности Елизаветы Петровны к красавцу пастуху и певчему сельской церкви Алексею Розуму.
«Случайный» отпрыск одного из самых знаменитых «случайных» семейств в России, Алексей Перовский проводит детство в Почепе — брянском имении отца, где тот, удалившись с воцарением Павла от государственных дел, живет в это время. Сюда он привозит и Соболевскую с детьми, которым дана фамилия Перовских — по той самой подмосковной вотчине Перово, где некогда Елизавета Петровна тайно венчалась с двоюродным их дедом и своим фаворитом. Дети живут в роскоши, но — на положении сирот и воспитанников. Отец — человек надменный, желчный, истовый масон — и вольтерьянец, мизантроп, равно способный к христианскому смирению и жестокостям,— выступал поначалу в роли благодетеля, и, похоже, дети допускались к нему нечасто.
Тем не менее Перовские и ату чают блестящее домашнее образование. Разумовский — не без труда — добивается возведения их в дворянство, и восемнадцати лет будущий писатель поступает в Московский университет. Уже через два года он получает высшую ученую степень — доктора философии и словесных наук. Прочитанные им при этом три обязательные пробные лекции (две из них Перовский, сверх установленных требований, прочел на немецком и французском языках) были посвящены ботанике, предмету страстного увлечения отца, привитого и сыну. Обращение к профессорам, предварявшее третью, русскую лекцию, изобличало в молодом кандидате в доктора поклонника Карамзина. К этому же времени относится и первый литературный опыт Перовского: в 1807 году он переводит на немецкий язык «Бедную Лизу», считая ее «восхитительным произведением», «великолепным» и «прекрасным» именно «по способу своего изложения». Труд свой, изданный в Москве, Перовский посвящает «его превосходительству г-ну тайному советнику и действительному камергеру графу Алексею Разумовскому». Церемонность и «этикетность» этого посвящения до-
статочно выразительно рисует характер отношений между отцом и сыном, а в факте посвящения есть и какой-то исторический парадокс: о ближайшие же годы Разумовский, уже в качестве министра народного просвещения, будет получать доносы П. И. Голенищева-Кутузова на опасного вольнодумца Карамзина. «Бели бы мой опыт и удался наилучшим образом,— писал Перовский,— то и тогда, не будь Вашего одобрения, я счел бы его весьма несовершенным. Мое единственное желание, чтобы Вы восприняли эти листки как знак совершенного уважения и как единственно доступное мне доказательство безграничной благодарности, которой я Вам обязан. Вашей светлости преданнейший слуга...»
Спустя год после «Бедной Лизы» выходят отдельной книжкой прочитанные в университете лекции Перовского — на этот раз с посвящением брату Алексея Кирилловича Льву Кирилловичу Разумовскому. Известен и подносной экземпляр книги сестре графа Наталье Кирилловне Загряжской — той самой Загряжской, с которой породнился впоследствии через жену свою Пушкин и которую так полюбил. Все это, казалось бы, второстепенные, но весьма показательные факты признания незаконного сына А. К. Разумовского ближайшими знатными родственниками. Это, несомненно, имело для молодого Перовского важные и благие последствия. Лев Кириллович жил в Москве не только широким и богатым барином, но и тесно дружил с Карамзиным, семейством Вяземских, с известным знатоком музыки графом М. Ю. Виельгорским. Тогда же, в университетские годы, сближается с ними, а также с Жуковским и Перовский. Сходится он и с младшим Вяземским (скорее всего, в 1807 г.). Вместе они «переплыли быстрой младости поток», вместе прошли по жизни, сохранив близость до конца дней.
Мой товарищ, спутник милый. На младом рассвете дня, С кем испытывал я силы Жизни новой для меня.
Как-то, встречею случайной, Мы столкнулись в добрый час, И сочувствий связью тайной Породнились души в нас.
(Я. А. Вяземский. «Поминки»)
Окончив университет, в январе 1808 года Перовский отправляется служить в Петербург, получив довольно высокий для молодых лет чин коллежского асессора и место в одном из департаментов Сената. Отец его к этому времени возвращается к государственной деятельности попечителем Московского учебного округа, а спустя несколько лет становится министром народного просвещения.
5
Сын влиятельного вельможи, однако, не намерен был по примеру других манкировать службой. Уже в августе 1809 года он оставляет рассеянную и веселую столицу для полугодовых скитаний по русской провинции — он прикомандирован к сенатору П. А. Обрескову, отправлявшемуся ревизовать Пермскую, Казанскую, Нижегородскую и Владимирскую губернии. Картины русской провинциальной жизни дали немало впечатлений и немалую пищу его острому глазу и уму. Не случайно уже после смерти друга, возвращаясь мыслью к этому времени, когда в будущем авторе «Монастырки» «художник зрел», Вяземский, участник той же Комиссии, писал:
Вопрошал ты быт губерний, Их причуды, суеты, И умел из этих терний Вызвать свежие цветы.
По возвращении из поездки Перовский недолго задержался в Петербурге — его вновь потянуло в уютную, родную Москву. В ноябре 1810 года он переезжает сюда на службу в один из московских департаментов Сената. Думается, не последнюю роль сыграли здесь московские дружеские привязанности, и это не удивительно: в Москве магнитом притягивал кумир Карамзин, кипение литературной жизни, и «старшие» — сам Карамзин и его соратники — с надеждой смотрели на новое литературное поколение, среди которого уже заявили о себе Жуковский и Вяземский. Переписка с последним дает нам прямые свидетельства тесного общения Перовского с этим кругом. Неизвестно, осознает ли себя в это время литератором сам Перовский — во всяком случае, он уже автор литературного перевода и «грешит» стихами. Стихотворные обращения Вяземского к Перовскому помогают составить некоторое представление о характере и литературных вкусах молодого человека, которому сопутствует «геиий златокрылый». Он — тайный сочинитель «идиллий», однако вместе с тем и постоянный участник дружеских собраний ироничной и разгульной московской молодежи, среди которой Вяземский — «безумец, расточитель молодой» — заводила и любимец. Не случайно наряду с «идиллиями» появляются у Перовского в эту пору и «амфигури» - шуточная стихотворная галиматья, сопровождавшаяся нередко веселой4 мистификацией. За Перовским упрочивается репутация «проказника м ил ого» и мастера «шутейного» розыгрыша — недаром он записывает свои стихи в альбом другого известного московского острослова и поэта-дилетанта С. А. Неёлова. Совершенно очевидно, однако, что у Перовского стихи эти — не плод «чистого» литературного творчества; они возникают как отражение определенного образа жизни, определенной формы бытового поведения. Впоследствии это «бытовое» мистификаторство органично входит в литературный метод писателя, составляя его оригинальную и отличи-
6
тельную черту. Традиция же «шутейного» стихотворства — конечно, не без прямого влияния Перовского — спустя несколько десятилетий с блеском воскреснет и продолжится под пером его племянника — одного из соавторов Козьмы Пруткова.
Однако Перовского в эти годы отличает не одна веселость, но и «здравый» ум, независимый и проницательный взгляд на «лиц, обычаи и нравы», которые он внимательно «следит наедине». Внутреннее становление, выбор жизненной позиции осуществлялись непросто. Так, в поисках ее Перовский делает неоднократные попытки сближения с масонами, хочет стать членом ложи, и только неожиданное сопротивление отца, видного и влиятельного масона, воспрепятствовало этому намерению1.
Молодой человек пытается занять себя и деятельностью на общественном поприще: он становится членом Общества испытателей природы, его подпись значится в числе основателей Общества любителей российской словесности, вскоре он уже упоминается и среди действительных членов Общества истории и древностей российских. Но и здесь он, очевидно, не находит удовлетворения и в работе обществ фактически участия не принимает. Москва не оправдала надежд, и в январе 1812 года Перовский покидает ее и снова устремляется в Петербург — на этот раз секретарем министра финансов по департаменту внешней торговли.
Однако служить ему здесь довелось недолго — с вторжением Наполеона в Россию Перовский, подобно многим, уже не мог мыслить себя штатским чиновником,— в июле он наперекор отцу становится казачьим офицером. Самый характер этого конфликта с отцом весьма показателен: запрещение Разумовского сыну ехать на театр военных действий было столь резким и категоричным, что сопровождалось даже угрозой лишить «незаконного» наследника материальной поддержки и имения. В ответ на это Перовский писал ему: «Можете ли Вы думать, граф, что сердце мое столь низко, чувства столь подлы, что я решуся оставить свое намерение не от опасения потерять вашу любовь, а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей мысли...»2
Решение Перовского осталось неизменным, и военная служба его продлилась до 1816 года. Он стал участником партизанской войны, сражался под Морупгеном, Лосецами, Дрезденом и при Кульме. В октябре 1813 года, после взятия Лейпцига, прекрасно зарекомеидо-
1 См.: Кирпичников А. И. Антонии Погорельский, эпизод из истории русского романтизма.— В его кн.: Очерки do истории новой русской литературы. 2-е, дои. изд. Т. 1. М., 1903, С. 84-85.
Цит. но кн.: Ствфоов Г. И. В отчизне пламеии и слова. (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983, с. 34. Письмо не датировано, но написано, скорее ■сего, в первой половино 1812 года.
7
павший себя и к тому же свободно говоривший по-немецки молодой офицер был назначен старшим адъютантом при генерал-губернаторе королевства Саксонского князе Н. Г. Репнине. В Дрездене Перовский прожил более двух лет.
Жизнь в Германии, вхождение в немецкую культуру, разнообразные художественные впечатления, знакомство с новинками немецкой романтической литературы серьезно повлияли на формирование эстетических вкусов будущего писателя. Очень вероятно, что в эти годы он знакомится по свежим следам с первыми сборниками рассказов Э. Т. Л. Гофмана: «Фантазии в манере Калло» (1814), «Ночные рассказы» (1816), романом «Эликсир дьявола» (1815). Многие сюжеты и мотивы, заимствованные как раз из этих произведений, спустя десятилетие воскреснут и впервые обретут жизнь на русской почве под пером писателя Антония Погорельского. С этого времени причудливая фантастика гофмановских сказок надолго будет и занимать, и пленять русские умы.
В 1816 году Перовский вновь появляется в Петербурге: расставшись с военным мундиром, он получает чин надворного советника и становится чиновником особых поручений в департаменте духовных дел иностранных исповеданий, поступив сюда под начало А. И. Тургенева. Здесь быстро возобновляются его литературные связи. В Петербурге Жуковский, Карамзины. Перовский окунается в среду «арзамас-цев», для него, «арзамасца» по духу и складу характера, несомненно, близкую и созвучную. Атмосфера веселого и безоглядного сокрушения архаических канонов находит в нем несомненный отклик. Во всяком случае, он явно охладевает к идее государственного служения — при всех связях Перовский не удостоился за это время и и одной награды — и «поворачивается» к словесности.
В это время в семье Перовских происходит важное событие, во многом определившее ход его дальнейшей жизни: у его сестры, красавицы Анны Алексеевны Разумовской, бывшей замужем за графом К. П. Толстым, братом известного художника и медальера Федора Толстого, рождается сын Алексей. Однако брак этот не сложился: сразу после рождения ребенка Анна Алексеевна оставляет мужа, и Алексей Перовский увозит сестру и полуторамесячного племянника в свое черниговское имение Погорельцы. Отныне и до конца дней он посвящает себя заботам о них и воспитанию горячо любимого им Алексаши.
В ближайшие годы Перовский делит, по-видимому, свое время между Погорельцами и Петербургом, где состоит на службе. Во всяком случае известно, что осенью 1818 года он — в кругу петербургских друзей, следующим летом навещает Карамзиных в Царском.
В это же время он знакомится и с Пушкиным. Имя юного поэта ему наверняка известно еще ранее. С возвращением в Петербург круг общения оказался достаточно узким: вечера у Жуковского, Александра
8
Тургенева, у самих Перовских — в это время в Петербурге и брат Алексея, Василий Алексеевич — друг Жуковского, впоследствии оренбургский военный губернатор, сопровождавший Пушкина по пугачевским местам.
В 1820 году Алексей Перовский заявляет о себе и как литератор: вновь пробует силы в поэзии — на этот раз «серьезной*. Однако дошедшие до нас опыты той поры — не вполне отделанная баллада «Странник-певец» и послание «Друг юности моей», адресованное, скорее всего, сестре в связи с рождением племянника,— не дают достаточного материала для каких бы то ни было оценок, тем более что оба стихотворения остались в рукописи. Единственная его стихотворная публикация этого времени — перевод из Горация. Так или иначе опыты эти, написанные хотя и талантливым, но вполне традиционным пером, автора, вероятно, не удовлетворяют, и другие образцы стихотворства Перовского нам неизвестны.
Однако отнюдь не ода Горация обратила внимание на новое литературное имя.
В конце июля — начале августа 1820 года выходит отдельным изданием первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила», и вокруг нее разворачиваются ожесточенные журнальные бон. Самая полемика эта возникла в атмосфере активного наступления ревнителей канонов классицизма на новое — романтическое — литературное направление и явилась прямым ее следствием. Статьи в московских и петербургских журналах упрекали Пушкина в нарушении сложившихся норм жанра и стиля и в пренебрежении законами «нравственности». В защиту поэта от лица его единомышленников и друзей с блестящими статьями выступил Алексей Перовский — и статьи эти в спорах вокруг «Руслана и Людмилы» заняли особое место. В этом первом заметном своем печатном выступлении Перовский представлял определенную литературную позицию, выражавшую взгляды старших «арзамасцев», в первую очередь Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева, и обнаруживавшую в нем не только ценителя и почитателя восходящей поэтической звезды, но и приверженца нового направления, литератора пушкинского круга. Яркая одаренность, острота и меткость суждений, а также способность к литературной мистификации, удачно и тонко использованной в качестве полемического приема,— все это раскрылось в статьях Перовского в полной мере.
Ареной основных битв стал журнал «Сын отечества». Против Пушкина выступили здесь А. Ф. Воейков — «арзамасец», тяготевший, однако, по своей литературной ориентации к «классицистской» нормативности, и Д. П. Зыков, друг П. А. Катенина, архаиста и открытого противника «Арзамаса», которого Пушкин и его друзья считали автором статьи. И Воейков в своем печально знаменитом «Разборе», и Зыков в «вопросах», составлявших статью и направленных иа разоблачение
9
сюжетных, композициопных и художественных «нелепостей» «Руслана и Людмилы»,— оба выступали с позиций пормативных поэтик XVIII века.
Антикритики Перовского рождались в кругу сторонников Пушкина и, видимо, предварительно там обсуждались. Во всяком случае о первой из них (против Зыкова) Тургенев извещал Вяземского еще до печати, а по поводу статьи Воейкова, возмутившей «арзамасцев», он тому же корреспонденту сообщал: «О критике на Пушкина я уже писал к тебе и откровенно говорил Воейкову, что такими замечаниями не подвинешь нашей литературы. Вчера принес ко мне Алексей Перовский замечания на критику, и довольно справедливые. Я отправлю их в «Сына»1.
Пародируя комическую сторону «допроса», учиненного юному поэту Зыковым, едко иронизируя над мелочной придирчивостью Воейкова, Перовский вместо с тем выступает против самих принципов классицистской поэтики, которые исповедуют его литературные противники, намекая, между прочим, и на неблаговидность нападений на высланного поэта. Он требует для Пушкина — «юного гиганта» — критики не только «истинной», но и благожелательной, подчеркивая тем самым высокий авторитет нового поэтического гения, в котором, как и «арзамасцы», видит надежду русской словесности. «Мои чиновники: Воейков (также служивший в это время под началом Тургенева.— М. Т.) и Алексей Перовский батально ругаются за Пушкина»2,— писал в эти дни А. Тургенев Вяземскому.
Критические выступления Алексея Перовского были высоко оценены и самим Пушкиным. Следя за полемикой из южной ссылки и не зная еще об авторстве Перовского, он писал 4 декабря 1820 года Н. И. Гнедичу: «...тот, кто взял на себя труд отвечать ему (Воейкову.— М. Т.) (благодарность и самолюбие в сторону), умнее всех их» . Позже, в 1828 году, в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы», вспомнив о «вопросах» Зыкова, Пушкин назвал ответ Перовского ему «остроумным и забавным» .
В том же 4820 году Алексея Перовского избирают членом Вольного общества любителей российской словесности. К этому времени во главе его становится Федор Глинка, и видную роль в обществе начинают играть будущие декабристы: К. "Ф. Рылеев, Николай и Александр Бестужевы, В. Кюхельбекер. Сюда же входят А. Дельвиг, А. Грибоедов. Со многими из них Перовский сближается лично. Во всяком случае, по важному свидетельству И. П. Лобойко, он встретился с некоторыми
1 Остафьеоский архив кн. Вяземских, т. II. Саб., 1899, с. 72.
2 Письмо от 28 окт. 1820.— Там же, с. 95.
3 П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч., т. XIII. М,- Л.. 1937. с. 21.
4 Том же. т. IV. с. 282.
10
из них на одном из званых вечеров у Перовского1. Не следует, конечно, преувеличивать значение и характер этих связей. Как вспоминал позже д К. Толстой, то огромное доверие, которое он испытывал к своему дяде, постоянно «сковывалось опасением его огорчить, порой — раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений... Помню,— пишет Толстой.— как я скрывал от него чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои пуританские принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободолюбия и протестантского духа, с которыми бы он никогда по примирился...»2. Конечно, Перовский, человек веселый, общительный и умный, в первую очередь необыкновенно привлекал к себе, по словам того же Лобойко, «добродушным и занимательным обхождением». И однако не только этим объясняется несомненная близость его в эту пору к передовым петербургским кругам.
Весной 1822 года умирает в Почепе граф А. К. Разумовский, а уже в июле Перовский подает в отставку и поселяется в наследственном теперь сельце своем Погорельцы. Вместе с ним живет и Анна Алексеевна с сыном. Здесь, в тиши украинской деревни, в уединении, скрашенном присутствием дорогих людей, превосходной библиотекой и изысканной обстановкой барского дома, рождается писатель Антоний Погорельский.
Несколько лет Перовский почти безвыездно живет то в Погорельцах, то в другом наследственном имении — Красном Роге. В это время, по-видимому, он и пишет первые свои повести, вошедшие потом в цикл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии»: «Изидора и Анюту», «Пагубные последствия необузданного воображения» и «Лафертовскую маков-ынцу». Во всяком случае, отправляясь в январе 1825 года в Петербург, Перовский везет уже с собой последнюю из названных повестей, и она появляется в мартовской книжке «Новостей литературы». Для этого жо журнала предназначал он и «Пагубные последствия...» (иод первоначальным названием «Несчастная любовь»), но не опубликовал и позднее переработал.
«Лафертовская маковница», подписанная новым литературным именем — псевдонимом Антоний Погорельский,— сразу обратила на себя всеобщее внимание. Сочетание фантастической сказки, рассказан* ной к тому же озорно и непринужденно, с сочно выписанным бытом московских окраин, было внове; внове оказалось и дерзкое небрежение автора к «здравой» необходимости «разумного» объяснения «чудесного»: в русской литературе появилась первая фантастическая повесть.
1 См.: <Л об ом ко И. II.> Псропский. <1840>.-ОР ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. ф. 154. № 39. л л, 94-98.
2Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х т., т. 4. М . 1964, с. 60.
11
Необычность сюжетной концовки и отсутствие вполне разрешающего фантастический план аккорда смутили, прежде всего, издателя «Новостей» — все того же Воейкова, снабдившего повесть своей «Развязкой». Он счел необходимым объяснить все детали и перипетии фантастического сюжета с точки зрения здравого смысла, - а также бытовых и психологически оправданных реалий. «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно, имел здесь целью показать,— писал Воейков,— до какой степени разгоряченное и с детских лет сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в превратном виде». С точки зрения Воейкова, богатство старухи не что иное, как «богатая дань суеверных людей», приходивших к ней гадать, черный кот, превратившийся в господина Мурлыкина,— плод расстроенного «мнимым колдовством маковиицы» воображения Маши — благо, Мурлыкин «на беду свою был черноволос, круглолиц и носил густые бакенбарды» и т. д. Извинение этому издатель находил в «суеверии русского простого народа, мало знакомого с просвещением», тем более что суеверие, к возмущению его, распространилось даже среди просвещенных парижанок1. Для рационалиста Воейкова напряженная и ироничная романтическая фантастика «Лафертовской маковиицы» оказывается совершенно непонятной, чуждой и — неприемлемой. Новый способ художественного мышления вызывает противодействие: по существу, его «примечание издателя» явилось продолжением старого спора с Перовским, возникшего пять лет назад по поводу «Руслана и Людмилы». Не случайно, издавая несколько лет спустя «Двойника», Перовский заключает вошедшую туда «Лафертовскую маковницу» полемическим — совершенно в духе его критических статей,— исполненным насмешливой иронии авторским диалогом с Двойником, прямо адресующим читателя к сентенциям Воейкова: «...напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки»,— говорит Двойник.— «Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.— Для суеверных людей развязок не напасешься,— отвечал я.— Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает «Литературные новости» 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем «Инвалида»2, которую я для того не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра».
Весьма примечательна реакция на повесть Пушкина. «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! — писал он в восхищении брату.— Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фал. Мурлыкиным. Выступаю плавио, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину»3. Много позже в «Гробовщике», несомненно близком
1 Новости литературы, 1825, JVs 3, с. 133 — 134.
2 «Новости литературы» выходили в качестве приложения к газ. «Русский инвалид*.
3 II у ш к и н А. С. Письмо от. 27 марта 1825 г.— Поли. собр. соч.. т. XIII, с. 157.
12
до стилистике «Лафертовской маковнице», Пушкин сравнит своего будочника Юрко с почтальоном Онуфричем Погорельского.
Приехав в Петербург, Перовский не только вступает на литературное поприще и возобновляет литературные связи; возвращается он и к государственной службе: ему предложена должность попечителя Харьковского учебного округа. В ведении Перовского оказывается не только Харьковский университет, но и Нежинская гимназия высших наук, где учился тогда Гоголь. Однако новые служебные обязанности не требовали постоянного его присутствия в Харькове, и Перовский вновь возвращается в Погорельцы, где, между прочим, немало времени уделяет и воспитанию племянника. Через год он вновь в Петербурге, куда на этот раз едет для переговоров с министром народного просвещения Л. С. Шишковым по поводу бедственного состояния вверенного ему университета. По приезде в Петербург Перовский назначается еще и членом Комитета по устройству учебных заведений и производится в действительные статские советники. В том же 1826 году по распоряжению Николая I Перовский пишет записку «О народном просвещении в России»1, явившуюся рецензией на доклад известного своими реакционными идеями попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого «О прекращении преподавания философии во всех учебных заведениях». Напомним, что в это же время — также по предложению Николая i — пишет свою известную записку о народном просвещении и Пушкин.
Осень 1826-го и зиму следующего года Перовский проводит между Москвой и Петербургом; в Москву уезжает Анна Алексеевна с сыном, здесь живот во втором замужестве — за генерал-майором Денисьевым — и мать Перовских. Тогда же он возобновляет знакомство и с возвращенным из ссылки Пушкиным. С наступлением весны Перовский с сестрой и племянником почти на полгода уезжают в Германию. В Веймаре они посещают Гёте — А. К. Толстой описал позже этот памятный визит в своих автобиографических заметках2. По возвращении Перовского из Германии в 1828 году выходит в свет первая его книга — «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».
Цикл рассказов — четыре новеллы, объединенные' диалогическим обрамлением, самый характер и сюжеты вставных повестей, содержание бесед автора с Двойником,— все это сразу же адресовало критиков к традициям западноевропейского романтизма, прежде всего к Л. Тику и Гофману с его «Серапионовыми братьями». В дальнейшем композиционное построение «Двойника» — первый такого рода опыт на русской почве — стал одним из излюбленных приемов русских романтиков.
1 Опубликована: Русская старина, 1901, № 5, с. 363—367.
3 См.: письмо А. К. Толстого к А. Губернатису от 20 февраля (4 марта) 1874 г.— Толстой А. К. Собр. соч., т. 4, с. 423.
13
получив продолжение и развитие в таких, например, выдающихся памятниках литературы романтизма, как «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Русские ночи» В. Ф. Одоевского. Однако в отличие от Гоголя и Одоевского, у которого повествование ведут четыре героя, проводящие время в развернутых философских спорах и воссоздающие внешнюю, «философскую» картину мира, двое «ведущих» у Погорельского — фактически одно и то же лицо, одно человеческое сознание, внутри которого противоборствуют рационально-просветительское и романтическое начала. Не случайно в описании внешности Двойника Погорельский дает точный свой автопортрет. Этот, как и другие легкие и изящные автобиографические «медальоны» в цикле, вновь невольно напоминает о пристрастии писателя к литературной мистификации. И «открытое» автобиографическое начало, рисующее собственное его поместье, и элегические размышления о счастье, сюжетно и образно перекликающиеся со стихотворным посланием «Друг юности моей», также, несомненно, имеющим сугубо личный характер,— все это до некоторой степени обличает в Погорельском литератора особого рода, не чуждого той степени высокого артистичного дилетантизма, при котором жизненные, ситуационные или художественные стимулы играют далеко не последнюю роль. Возможно, эта черта творческой индивидуальности писателя поможет нам до некоторой степени понять и принципиальные особенности его «Двойника».
Книга Погорельского, рожденная в атмосфере утверждавшего себя в русской литературе романтизма, в полной мерс отразила этот «слом» направлений, движение писателя-сентименталиста карамзиыекой ориентации, разделявшего и просветительские идеи, к новому художественному мировоззрению. Самое «двойничество» Погорельского представляет собой психологическую раздвоенность сознания именно такого рода. Речь у автора с Двойником идет о «новомодных» предметах — предчувствиях, предсказаниях, привидениях, магнетической силе, и обсуждение их колеблется все время между двумя крайними точками: пристальным интересом к названным темам и попытками их рационального объяснения. Не случайно в этих дебатах находит себе место пространное рассуждение Двойника о свойствах человеческого ума, восходящее к философии материалиста Гельвеция Эти тенденции «рациональной» фантастики, именно «рациональностью» своей отличающиеся от западных романтических образцов и в самых начальных, а порой и наивных формах сформулированные впервые Погорельским в «Двойпике», были подхвачены и развиты потом в русской романтической прозе, и полпее всего — В. Одоевским. Именно по этому принципу развивалась в основном русская фантастическая повесть. Названные особенности как раз
1 См.: Степанов Н. Л. Антония Погорельский. — В кн.: Антонин Погорельский Двойник, или Мои вечерв в Малороссии. Монастырка. М.. 1960. с. 9.
14
и дают «ключ» к прочтению весьма разнохарактерных вставных новелл «Двойника», каждая из которых восходит к определенному литературному источнику.
Первая повелла — «Изидор и Анюта» — прямо адресует нас к карам-зинской «чувствительной» повести. Погорельский сполна отдает ей дань и вместе с тем колеблет ее устои. Непривычная для этого жанра романтическая напряженность действия, «таинственный» трагический финал, наряду с этим превосходные картины разоренной Наполеоном Москвы — все это уже очевидные симптомы нарушения «чистоты» жанра.
Вторая новелла — «Пагубные последствия необузданного воображения» — также посвящена истории несчастной любви (так она первоначально и называлась), однако рассказана она уже совсем в ином ключе. В критической литературе, начиная с прижизненных откликов, эта повесть не раз и с полным основанием связывалась с именем Гофмана. Однако наблюдение это справедливо лишь до известных пределов. В самом деле. Погорельский так открыто, местами почти дословно повторяет сюжетную коллизию гофмановского «Песочного человека», что нельзя не увидеть в этом сознательную намеренность приема. Здесь та же, что и у Гофмана, влюбленность молодого человека в куклу, то же его трагическое прозрение, безумие и конец. И тем не менее разница между двумя произведениями весьма существенна. Погорельский разрушает замкнутое существование гофмановских героев в мире мечты и поэзии, в мире полусна-полуяви и неожиданно переводит тональность повествования в иной, социально-дидактический регистр. Справедливо, что с Погорельского началась русская «гофманиана», ибо это — первое обращение русского писателя к Гофману, однако также справедливо, что с Погорельского началась и особая традиция освоения в России творчества великого немецкого романтика1. Именно по пути привнесения социально-дидактических мотивов пойдет в своих «гофмановских» фантастических повестях страстный поклонник немецкого писателя Н. А. Полевой; так же будет интерпретировать его и самый крупный русский романтик-фантаст Одоевский — в частности, мотив «куколь-кости» светского общества повторится у него в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», в «Той же сказке, только наизворот», вошедших в цикл «Пестрых сказок» (1833).
Что касается третьей новеллы «Двойника» — «Лафертовской маковницы», о которой подробно говорилось выше,— то ее «условное правдоподобие», ориентированное на фольклорную стихию, в художественном отношении оказалось наиболее совершенным и убедительным: повесть неизменно выделялась в цикле как наиболее удавшаяся.
1 Подробнее о Гофман о и Погорельском см.: Ботникова А. Б. Э.Т.А. Гофман " русская литература. Воронеж, 1977, с. 56 — 68.
15
Последний рассказ «Двойника» — «Путешествие в дилижансе» — был также плодом литературных впечатлений. Он явился своеобразным откликом на модную повесть французского писатели и ученого Путана «Жоко, анекдот, извлеченный из неизданных писем об инстинкте животных» (1824). Интерес писателя, естественника по образованию, к такого рода темам вполне понятен. Однако любопытно, что Погорельский, отталкиваясь от сюжетной коллизии произведения Пужана, создает свой — полемический — вариант повести о Жоко. Мелодраматической версии первоисточника — истории влюбленности самки-орангутанга в человека — он противопоставляет руссоистский рассказ о материнской привязанности обезьяны к похищенному ребенку. Правда, и Погорельский не обходится без некоторого мелодраматического накала страстей — его герой сам убивает свою воспитательницу Туту, однако это нисколько не снижает полемического пафоса русского варианта. Если при этом учесть, что перевод повести Пужана в 1825 году появился в «Московском телеграфе», а в 1828 году написанная па ее основе Габриэлем и Э. Рошфором мелодрама (русский перевод Р. М. Зотова) пошла на московской сцене, заключенный в последней новелле «Двойника» скрытый смысл становится особенно понятным.
Книга Погорельского широкого читательского успеха не имела и, в общем, осталась не до конца понятой. Даже С. П. Шевырев, хорошо знавший немецкую романтическую литературу, в частности Гофмана, в новеллах о кукле и обезьяне увидел лишь «крайность своенравной и даже необузданной фантазии, преступившей границы всякого вероятия» (Московский вестник, 1828, ч. 10, № 14). Однако в откликах на «Двойника» все единодушно отмечали как редкое в современной литературе достоинство прекрасный, легкий и «заманчивый» слог. Мастерство превосходного устного рассказчика, не раз восхищавшее слушателей Погорельского, сказалось в его писательской манере сполна. Вяземский позже писал, что он «очень хорошо передает себя в слоге своем». Так или иначе «Двойник» остался не только памятником эпохи литературного «перелома», он явился и по-своему «провидческой» книгой, ибо тонкое литературное чутье Погорельского помогло ему точно уловить и наметить ряд важных тенденций, развитых литературой романтизма, и нашедших потом наиболее совершенное свое выражение у Достоевского.
В следующем, 1829 году выходят ещо два «волшебных» произведения Погорельского: новелла «Посетитель магика» (согласно авторскому примечанию, перевод с английского), с популярной в Европе легендой об Агасфере, и детская сказка «Черная курица, или Подземные жители», написанная Погорельским, скорее всего, для племянника. По-видимому, в конце 1828 года Жуковский писал Дельвигу, издававшему альманах «Северные цветы»: «У Перовского есть презабавная и по моему мнению прекрасная детская сказка «Черная курица». Она у меня. Выпросите
16
ее себе»1. Однако сказка вышла отдельным изданием, и ей, сразу покорившей читательские сердца, была суждена долгая жизнь.
В том же 1829 году Перовского избирают в члены Российской Академии. Он — в Петербурге, и среда его общения здесь — пушкинская. С самим поэтом он — в коротких дружеских отношениях и на «ты». По воспоминаниям Вяземского известно, например, что уже за несколько лет до этого Пушкин читал в доме Перовского в Петербурге своего «Бориса Годунова». Сближается он в это время и с Дельвигом, и редакция готовящейся к изданию «Литературной газеты» видит в нем желанного автора. Перовский входит в большую литературу как писатель пушкинского круга.
С япваря 1830 года начинает выходить «Литературная газета», и в первых же ее номерах появляется отрывок из нового романа Погорельского «Магнетизер» (не имевшего, правда, продолжения), где в прекрасную бытовую живопись — описание провинциального купеческого семейства — вновь вторгается «таинственное». Казалось, Погорельский явно упрочивает за собой репутацию писателя «фантастического», но уже месяц спустя та же «Литературная газета» анонсирует другое крупное его произведение — совсем в ином роде, из жизни Малороссии, в котором отмечаются «живость картин, верность описаний, счастливо схваченные черты нравов малороссийских и прекрасный слог». Речь шла о самом значительном создании Погорельского — романе «Монастырка».
Появление его имело некоторую предысторию, объясняющую особый накал страстей в широко развернувшейся вокруг него полемике. Дело в том, что незадолго перед этим, в конце 1829 года, на книжных прилавках появился роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин». Написанный, как и «Монастырка», в жанре «нравоописательного» романа, он, однако, своими охранительными идеями, псевдоисторичностью и псевдобытописательством вызвал резкое противодействие в прогрессивных кругах. Тем не менее противопоставить ему было нечего, и читательский успех «Выжигина» оказался огромен. Резкое неприятие булгарин-ского творения пушкинским кругом явилось и следствием, и продолжением острой идейно-литературной борьбы. Появившаяся же из-под пера Погорельского история неискушенной воспитанницы Смольного монастыря Анюты, рассказанная просто, искренне и не без психологической достоверности, убедительная в своей реальности, верно схваченная жизнь Украины — все это выгодно отличало его новый роман от «Ивана Выжигина». Не чуждый некоторой сентиментальности и искусственности сюжета, роман раскрывал внутреннюю логику характеров, и картины быта и нравов обретали в нем силу жизненной правды. «Вот настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов»,— писал
1 Русский архив, 1891, кн. 2, «№ 7, с. 364.
17
Вяземский, представляя читателю первый том «Монастырки» и героев романа: Анюту — «прототипа всех милых, простосердечных, откровенных монастырок бывших, настоящих и будущих»; Клима Сидоровича Дюндика — «лицо оригинальное, означенное резкими и забавными чертами и годное для изучения нравственного»; Марфу Петровну, «которая женщина себе на уме и вопреки духовного наставления вовсе не боится мужа, а напротив, держит его в ежовых рукавицах», двух ее дочерей, «выучившихся фрапцузскому языку по книге «Jardin tic Paradis pour le^on des enfants...». Во всех этих лицах, не исключая и «племяпника Марфы Петровны, господина Прыжкова, урожденного Прыжко», который вздумал промышлять на роменской ярмарке забавой парижских шалунов, Вяземский находил ту точность психологической и бытовой характеристики, которая делает их реально узнаваемыми фигурами провинциальной помещичьей среды. Именно это, согласно Вяземскому, отличало «Монастырку» от нравоописаний Булгарина, но находящих в обществе прямых соответствий и переносящих на русский быт готовые схемы, заимствованные из иноязычных литератур. Формула «первый роман нравов» была в этом отношении полемической; она противопоставляла «Монастырку» как Булгарину, так и Нарежному, имевшим перед Погорельским только хронологическое первенство. «Нарежный был Теньер, и еще русский Теньер романа. <...> Романы Наружного обдают нас варен ухою, и куда автор ни вводит нас, а все, кажется, не выходишь у него из корчмы. Действующие лица в новом романе совершенно других примет»1. В этом отзыве довольно точно схвачены литературные особенности «Монастырки»: бытовая сфера, освобожденная от несущественных, случайных черт, взятая в своих характерных проявлениях, и, с другой стороны, очищенная от натуралистического, «низкого», «грубого». Скажем сразу же, что в этом была и сила, и слабость «Монастырки» по сравнению с упомянутыми романами Нарежного, чье бытописание ярче, смелее и свободнее. «Монастырка» же во многом зависит еще от сентиментальной и романтической традиции, в которой держалось представление о бытовой сфере как о «низкой», требующей «очищения». Роман Погорельского, конечно, не реалистический роман; в нем есть и традиционно романтические ситуации и лица: таков, например, благородный цыган Василий, с которым связана целая сюжетная линия. Но он был значительным шагом вперед по сравнению с «нравственно-сатирическим» романом, и к тому же, как верно отметил Вяземский, «язык и слог его» совершенно отвечали «требованиям природы и искусства». Это была также стрела, пущенная в Булгарина: его обвиняли именно в отсутствии «слога», в безжизненной правильности литературной речи.
Для характеристики отношения к «Монастырке» в пушкинском
1 Лит. газ., 1830, т. I, № 16, 17 марта.
18
кругу небезынтересно вспомнить признание Баратынского, тонкого ценителя литературного стиля. Прочитав «Вечера на хуторе близ Диканьки», он писал: «Я приписывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его»1.
Статья Вяземского появилась в «Литературной газете» и прозвучала как боевой сигнал. Булгарин должен был отвечать н защищать свои принципы дидактического бытописания. Еще до выхода романа Погорельского он был предубежден против автора. 25 января 1830 года он писал жалобу Бенкендорфу: «Меня гонят и преследуют сильные ныне при дворе люди: Жуковский и Алексей Перовский за то именно, что я не хочу быть орудием никакой партии»2. Так или иначе, но открыто нападать на «сильного при дворе» сановника и «сильного» литературного конкурента Булгарин не решается; он в своей «Северной пчеле» (№№ 32—37) увенчивает автора «Монастырки» розами, имевшими, однако, довольно острые шипы. Начав статью буквально с тех же уверений в своей «внепартийности», что и в письме к Бенкендорфу, Булгарин расценивает «Монастырку» как роман «более юмористический, нежели сатирический», принадлежащий к числу тех «милых» произведений, в которых «не должно искать ни великих истин, ни сильных характеров, ни резких сцен, ни поэтических порывов», где представлены «обыкновенные случаи жизни, характеры, кажется, знакомые, рассуждения, слышимые ежедневно, но все это так мило сложено, так искусно распределено, так живо нарисовано, что читатель невольно увлекается...». В этих вынужденных похвалах очень важно замечание об «обыкновенности» лиц и жизненных ситуаций,— именно этот упрек, как известно, адресовал А. Бестужев «Евгению Онегину», и именно эта «обыкновенность», неприемлемая для романтической эстетики, открыла русской литературе новые пути.
Наряду с сомнительными похвалами и с признанием безупречности литературного слога Булгарин адресует ряд полемических выпадов как непосредственно Погорельскому, так и автору статьи в «Литературной газете»; так, он решительно не соглашался, что «Монастырка» — «единственный русский роман, изображающий нравы в настоящем виде». Не обошелся Булгарин и без довольно грубых выпадов личного свойства.
Пушкинская группа писателей продолжала наступление. В альманахе «Северные цветы на 1831 год», в «Обозрении российской словесности за вторую половину 1829 и первую половину 1830 года» О. Сомов разбирает уже сочинения Погорельского и Булгарин а рядом. Обвиняя последнего в анахронизме и полном непонимании «общего характера
1 Татевский сборник С. А. Рачинского. Сиб.. 1899, с. 43.
2 Цит. по кн.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Соб., 1909. с. 270.
19
русского народа», считая к тому же, что «Булгарин пишет как иностранец, который постиг механизм русского языка», критик, напротив, видит в романе Погорельского очерки характеров, «схваченных с самой природы», и как знаток Малороссии «отдает всю справедливость наблюдательности и меткости автора», психологической и этнографической верности романа.
Московские журналы, держась в стороне от петербургских литературных схваток, встретили «Монастырку» сдержаннее. Единодушпо разделяя мнение о мастерстве Погорельского-рассказчика, они тем не менее оценили «Монастырку» как роман подражательный. По мнению критика «Московского телеграфа» (ч. 32, № 5), это не более «как приятное описание семейственных картин», в котором не следует искать «ни страстей, ни мыслей, ни глубокого значения». Критик объяснял «неумеренные» похвалы «Литературной газеты» личными дружескими связями писатели. Мнение «Московского телеграфа» вполне разделял и другой журнал — «Атеней» (ч. 2, № 7). Брошенное Булгариным определение «Монастырки» как «милого», непритязательного романа нашло у москвичей сочувствие и поддержку; они но упустили случая задеть «литературных аристократов», / каковыми считали пушкинско-дельвиговекпй кружок и к которому, естественно, причисляли и Погорельского.
Однако острые и в существе своем «партийные» споры не помешали шумному успеху романа. Им зачитывались в столицах и в провинции, и интерес к его продолжению не ослабевал в течение нескольких лет. Погорельский же заставил себя ждать довольно долго. Но когда, спустя три года, вышла, наконец, вторая часть «Монастырки», появление ее было воспринято как заметное событие не только в узколитературных кругах: роман к тому времени обрел широкую читательскую аудиторию.
Критические отклики па завершенный уже роман оказались г покойное по тону и не были столь явно отмечены кипением страстей. Тот же «Московский телеграф» па этот раз писал, что «занимательность» этого «не высокого, не гениального, но чрезвычайно приятного,, милого» произведения «так естественна, так проста и следственно близка всякому, что искусство автора почти незаметно — а это едва ли не большое искусство». «Это ясный, простой рассказ умного, образованного человека». Другое московское изданио — «Молва»,— не без ехидства напомнив читателям о «громком плеске приятельской газеты» при появлении первой части романа, отозвалось тем не менее о «Монастырке» как о «приятном литературном явлении»
Спустя два десятилетия, уже после смерти писателя, откликаясь
*Подробнее см.: Jozеf Smaga. Anloni Pogorielski. Zycie i Iworciosc na lie eroki. Wroclaw - YVarszawa — Krakow. 1 -70.
20
на выход двухтомника его сочинений, Н. Г. Чернышевский назвал «Монастырку» «очень замечательным явлением» для своего времени. По его мысли, в отличие от Н. Полевого или Марлинского Погорельский описывал не «страсти», а «нравы», и поэтому их успех, как и успех романов Загоскина, «не мог вредить «Двойнику» и «Монастырке»; к тому же произведения Погорельского, владевшего, по его мнению, замечательным талантом рассказчика, стоят «в беллетристическом отношении несравненно выше всех этих романов»1. Эта спокойная и объективная оценка, подтверждавшая взгляд на «Монастырку» пушкинского круга, вполне была оправдана временем: на протяжении XIX века «Мопастырка» оставалась одним из самых читаемых романов и даже вызвала к жизни литературные подражания. С точки зрения историко-литературной роман этот, во многом еще несовершенный, явился тем не менее провозвестником того «семейного» реалистического романа, который получил в русской литературе дальнейшее блистательное развитие вплоть до романов Льва Толстого.
«Монастырка» была последним произведением Антония Погорельского. В промежутке между двумя ее частями, в 1830 году, в «Литературной газете» было еще напечатано его шутливо-философское послание барону Гумбольдту — «Новая тяжба о букве Ъ». Больше имя писателя на страницах печати но появлялось2. В 1830 году он вышел в отставку и, покинув также и литературное поприще, всецело отдался воспитанию племянника. Пользуясь'полной его доверенностью и любовью, он внимательно и серьезно следит за первыми, еще детскими, литературными опытами будущего поэта, исподволь формирует его литературный вкус, приучает к творческой взыскательности. Письма Перовского к нему наполнены литературными советами. Весьма красноречив, например, известный случай, когда Перовский, уступая, видимо, нетерпеливому желанию автора, опубликовал в одном из периодических изданий его стихотворение, поместив рядом строгую критику на него, с тем чтобы указать юному писателю на преждевременность его желания печатать свои произведения. Вводит Перовский племянника и в свой литературный круг, показывает его опыты Жуковскому и Пушкину, с которым Толстой еще мальчиком познакомился в доме своего дяди.
В 1831 году Перовский отправляется со своим воспитанником и сестрой в путешествие по Италии. Большой знаток и ценитель искусства, он раскрывает перед будущим поэтом и в известном смысле своим
1 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Антона Погорельского.— Современник, 1854, т. XLV, St б, отд. IV, с. 49 — 57.
2 Г. И. Стафеев в своей книге «В отчизне пламени и слова» опубликовал в качество неизвестного произведения Погорельского сатиру «Недремлющее око» (хранится в ЦГИА, ф. 1021, фонд Перовских, on. 1, ед. хр. 15, лл. 1—7, копия без подписи и даты). Она, однако, принадлежит но Погорельскому, а П. А. Машкову и относится к началу 1840-х годов (см.: Никитенко А. В. Дневник в 3-х т.. т. 1. (1826-1857), [М], 1955, с. 251).
21
духовным восприемником мир старых итальянских мастеров, делает там ряд значительных приобретений для своей художественной коллекции.
По возвращении в Россию Перовский живет то в Погорельцах, то в одной из столиц, почти не расставаясь со своими близкими, фактически заменившими ему семью. Сохраняются в то же время и прежние дружеские связи. Его имя в эти годы не раз мелькает на страницах пушкинских писем.
В 1836 году у Перовского обостряется «грудная болезнь» (очевидно, туберкулез), и он в начале лета в сопровождении Анны Алексеевны и племянника отправляется для лечения в Ниццу. Но по дороге туда в Варшаве 9(21) июля Алексея Перовского застает внезапный и скорый конец.
...Сменились поколения, и вслед за Антонием Погорельским пришли в литературу другие имена, значительнее и крупнее. Однако в памяти преемников, то угасая, то вспыхивая вновь, хранилось воспоминание о его необычном мире, исполненном блеска и легкого изящества. Мир этот увлекает нас и сегодня.
М. Турьян
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан