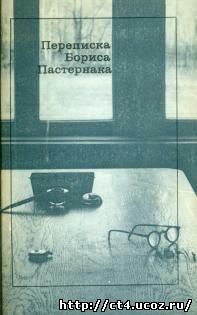Раздел ХРК-361
ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
— М.: Худож. лит., 1990.—575 с.
Вступительная статья Л. Я. Гинзбург
Составление, подготовка текстов и комментарии Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака
Оформление художника Ю.Боярского
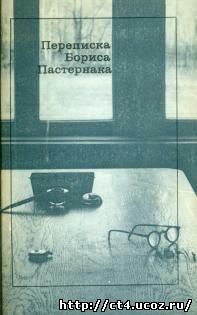
 
На обложке воспроизведена фотография кабинета Б. Пастернака в Переделкине работы И. Пальмина
На обороте обложки—фотопортрет 1936 г. работы Л. Горнунга
Аннотация:
Книга содержит переписку Б. Л. Пастернака с О. М. Фрейденберг, М. И. Цветаевой, А. С. Эфрон, Н. С. Тихоновым, М. Горьким, В. Т. Шаламовым.
СОДЕРЖАНИЕ
Л Гинзбург. Письма Бориса Пастернака
От составителей
Б. Л. ПАСТЕРНАК И О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ
Б. Л. ПАСТЕРНАК И М. И. ЦВЕТАЕВА
Б. Л. ПАСТЕРНАК И М. ГОРЬКИЙ
Б. Л. ПАСТЕРНАК И H. С. ТИХОНОВ
Б. Л. ПАСТЕРНАК И А. С. ЭФРОН
Б. Л. ПАСТЕРНАК И В. Т. ШАЛАМОВ
ПИСЬМА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
Как одно из средств человеческого общения письма имеют разное назначение. Они несут всевозможную информацию, они содержат размышления, наблюдения или выражают эмоции. Они удовлетворяют настоятельную потребность человека в самоотчете, в том, чтобы осознавать и фиксировать протекание своей жизни. Те же функции выполняют письма писателей или тех, кто осуществлял свой литературный дар именно в эпистолярной форме (пример — знаменитые письма госпожи де Севинье). Письма писателя не всегда литература. Но и в этом случае часто есть связь между ними и его писательскими задачами.
Существовали исторические периоды, когда в общей связи фактов культуры письма приобретали специфическую значимость. Обычно это периоды особенно острого самоосознания и самоопределения личности. В русской культуре такова переписка в духе сентиментализма конца XVIII— начала XIX века. Ей на смену приходит жанр дружеского письма арзамасского (Вяземский, Александр Тургенев), а потом и пушкинского круга. Русский романтизм 1830-х годов — это, например, переписка с невестой молодого Герцена, которую сам автор определял как двухголосую поэму. В 1840-х годах напряженная проблематика личности порождает жанр философеко-исповедального письма, процветавший в кружке Станкевича—Белинского. Для второй половины XIX века письмо как жанр, как литературный факт гораздо менее характерно. В этом качестве его возрождают индивидуалистические искания символистов. Тому свидетельство— письма Блока к невесте, его переписка с Андреем Белым. К какому же эпистолярному типу относятся письма Пастернака? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Охват этих писем широк. Они и литературный факт, и бытовая и автобиографическая информация. В них размышления о творчестве и автохарактеристики, разговор об отношениях с жестокой действительностью и признания в любви — пестрое содержание, отливавшееся в разные формы.
Формы менялись в зависимости от разных причин.
Прежде всего от хронологии. Здесь со временем тот же уход от сложного и изысканного, те же поиски простоты, которые так характерны для поэтического опыта Пастернака. В какой-то мере эти поиски внушены были Пастернаку непомерным давлением времени. Но он осмысляет его требования философски, осваивает их писательскиТот же процесс упрощения и в письмах. Что особенно очевидно на материале многолетней переписки с О. М. Фрейденберг. Тематические и стилистические изменения в письмах Пастернака соотнесены также с его адресатами. По подборке, включенной в настоящий сборник, можно проследить, как в общении с разными корреспондентами складываются разные эпистолярные сюжеты и стили.
Так, из писем к Горькому явственно вырисовывается единый сюжет: обращение недостойного ученика к Учителю жизни. «У меня, разумеется, есть свои непоколебимые представленья о Вашей силе, охвате и историческом значе-ньи, о глубине и почти что вездесущности Вашей души» (7 января 1928). Для Пастернака Горький—великий писатель и великий революционер. Он называет Горького персонификацией революции. «...Естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее правда, если бы в русской истории не было Вас» (10 октября 1927). Превознесению адресата противостоит отрицательная оценка самого себя, от письма к письму настойчиво повторяющаяся. Особенно отчетливо эта самооценка сформулирована в письме от 4 марта 1933 года: «Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович,— в никчемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет». Самоотрицание по отношению к Горькому принимает устойчивую форму чувства вины. Нашелся и конкретный повод. В 1915 году Горький в отредактированном виде напечатал (журнал «Современник») пастернаковский перевод пьесы Клейста «Разбитый кувшин». Не зная, что правка принадлежит самому Горькому, Пастернак направил ему письмо с резким протестом против бесцеремонного обращения с его авторским текстом. Недоразумение выяснилось. Эпизод этот—к нему Пастернак возвращается годы спустя -становится неиссякаемым источником чувства вины, образует в его письмах к Горькому устойчивую сюжетную линию.
___________
*Пастернак даже утверждал, что стремился к простоте изначально, понимая под простотой присущую его раннему творчеству спонтанность, первозданность восприятия мира.
Признание собственной неполноценности, «несостоятельности» в письмах к Горькому достигает своего апогея. Но тот же мотив настойчиво проходит и через письма к другим адресатам (в том числе к Фрейденберг). В письме к Тихонову (21 апреля 1924) Пастернак говорит о «скуке и тупоумии» поэмы «Высокая болезнь» — одного из величайших своих творений. В письме к Шаламову называет книгу «Темы и вариации» — «отходами от «Сестры моей жизни», «отброшенным браком». Все это сопровождается самыми высокими оценками творчества своих адресатов.
В «Охранной грамоте» Пастернак утверждал, что «смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость».
Если суммировать самооценки Пастернака, то получается: отрицание своих ранних стихов, с оговорками признание поздних, и — признание подлинным делом своей жизни романа «Доктор Живаго»,—о нем много говорится в письмах к Шаламову, к Фрейденберг. В связи с работой над романом Пастернак 20 марта 1954 года пишет Фрейденберг: «...Писать их (стихи.— JI. Г.) гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения и прочее и прочее, и создает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописание».
Творческое самоотрицание имеет в русском культурном сознании большую традицию, традицию Гоголя, Толстого. Но они отрицали свое творчество позже, на другой ступени своего развития. Одновременное, в разгаре творческих усилий, самоотрицание большого поэта, вероятно, беспрецедентно. Мы встречаем его разве что у Тютчева. Но Тютчев был великим поэтом, не будучи профессиональным писателем. С позиции дилетанта он мог себе это позволить. А Пастернак? Не было ли его самоотрицание своего рода ролью, маской, уже сросшейся с личностью?
Во всяком случае, настойчивое самоотрицание Пастернака уходит в какие-то глубинные свойства его психики. Наряду с творческим самоосуждением — соответствующие психологические автохарактеристики, признание своей человеческой «неполноценности». «Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я» (письмо к Цветаевой от 1 июля 1926). И Фрейденберг, и Цветаевой Пастернак пишет об угнетающих его комплексах, о своей «страдательной» жизненной позиции.
А за маской — могучий творческий напор, смывающий всяческую «неполноценность», неукротимая любовь к претворяемой в стихи жизни, которую он назвал Сестрой. Это в молодые годы, а в 1953 году (20 января) он пишет Фрейден-берг, вспоминая перенесенный инфаркт: «В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства... Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования» \ В экстремальном положении упала маска «несостоятельности».
Письма Пастернака к Горькому—письма к учителю, к старшему. К Николаю Тихонову он относится как равный. Возникает другой тип письма—письмо как средство профессионального, дружеского общения. Это переписка поэтов, с разговором о литературе, о творчестве своем и творчестве адресата.
Отчасти к тому же типу принадлежит и переписка с Варламом Шалимовым. Но в этом случае Шаламов является младшим, и он обращается к Пастернаку как к учителю. В то же время в этой переписке разговор о литературе поднят на высоту рассмотрения самых больших жизненных вопросов и решения насущнейших творческих задач.
Переписка Пастернака с Шаламовым началась в 1952 году, когда Шаламов находился еще в ссылке на Колыме (из лагеря он освободился в 1951 году). Тем самым в эту переписку вторгается еще одна тема—тема трагической судьбы Шаламова. Вот почему особую значимость в письмах к Шаламову приобретают оценки социальной действительности.
«Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная» (27 октября 1954). Но отношение Пастернака к социуму никогда не было одномерным; оно отпивалось в двойственную форму отталкивания-притяжения. Характерны в этом плане строки из письма к Шаламову от 9 июля 1952 года: «Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним,
__________
1 О том же душевном опыте и почти теми же словами Пастернак писал Н. А. Табидзе 17 января 1953 года (см.: Пастернак Б. Избранное. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1985, с. 472). То же переживание отразилось в стихотворении 1956 г. «В больнице».
тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков...» Отрицание «эстетических прихотей» модернизма переходит здесь в самоотрицание социальное. Это все то же традиционное для русской интеллигенции пастернаковское понимание коллизии интеллигенции и революции, понимание, породившее строки «Высокой болезни» об интеллигенте, который Печатал и писал плакаты Про радость своего заката. Чересполосицей в оценке социума отмечены и письма Пастернака к Фрейденберг. В поздних письмах он говорит о «страшных годах», удивляется тому, что «уцелел... за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!!» (7 января 1954). Но именно в 30-х годах Пастернак пробовал найти оправдание действительности, оправдание, которому сопротивлялась его человечность—и потому пронизанное двоящимися оценками. Он пишет Фрейденберг 18 октября 1933 года: «Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положеньях... На партийных ли чистках, в качестве ли мерила художественных и житейских оценок, в сознаньи ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны». Те же настроения в письме к Фрейденберг от 3 апреля 1935 года. Но уже в 1936 году (1 октября) Пастернак с отвращением пишет ей о развернувшейся тогда травле интеллигенции (дискуссии о формализме в искусстве).
В противоречивой, в мучительной форме осуществлялось неизбывное пастернаковское стремление найти свое место в новом обществе.
Об этом стремлении Пастернак писал — вспоминая пушкинские «Стансы» — в программном стихотворении 1931 года:
Столетье с лишним—не вчера, А сила прежняя в соблазне В надежде славы и добра Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща В его существованьи кратком, Труда со всеми сообща И заодно с правопорядком.
Тягу Пастернака к труду «со всеми сообща» сталинская пора подвергла жесточайшим испытаниям. Это отражено в его письмах.
7 Среди эпистолярного наследия Пастернака две самых монументальных переписки — это переписка с Мариной Цветаевой и с его двоюродной сестрой Ольгой Михайловной Фрейденберг. Письма к Цветаевой и отчасти к Фрейденберг— это любовные письма, но в совсем особом, уникальном роде. В одном случае объектом любовных признаний является большой поэт (по своему обыкновению Пастернак ставит ее выше себя), в другом случае—будущий большой ученый, с самого начала выдающийся интеллектуальный партнер. Переписка с Цветаевой, особенно переписка 1926 года, воспринимается сейчас как литература, как своего рода трехсторонний (третий участник—Рильке) роман в письмах. Роман, организованный проходящим мотивом встречи-невстречи. Присутствие Рильке образует своеобразный сюжетный треугольник, замечательный тем, что участники его никогда не видели друг друга.
Для Цветаевой такое соотношение было не случайностью, а эмоциональной нормой. 9 мая 1926 года она пишет Рильке о Пастернаке: «...Люблю его, как любят лишь никогда не виденных (давно ушедших или тех, кто еще впереди: идущих за нами), никогда не виденных или никогда не бывших».
Трехсторонний роман в письмах — это инициатива Цветаевой, и весь он окрашен ее страстной, захлебывающейся тональностью. Стилистика Цветаевой—суммарный романтизм, переработанный опытом литературы XX века с ее языком, раскрепощенным от всяческих норм. Письма Пастернака к Цветаевой — это письма к поэту, и в них много говорится о творчестве, ее и своем. Пастернак восторженно отзывается о «Поэме Горы» и «Поэме Конца», дает обширный, чрезвычайно подробный разбор поэмы Цветаевой «Крысолов», содержащий положения, важные для понимания эстетики Пастернака. Но эта переписка поэтов в то же время переписка влюбленных, хотя и странных влюбленных, «никогда не виденных» друг другом. У Пастернака отношение к любимому поэту и к любимой женщине двоится и скрещивается. «Про страшный твой дар не могу думать... Открытый... и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь долгом, возвышает человека. Он навязывает свободу, как призванье, как край, где тебя можно встретить». Обширное письмо от 2 июля 1926 года посвящено цветаевскому «Крысолову». Но тщательнейший анализ поэмы прерывает вдруг вторгшаяся любовная тема: «И опять— живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно это люблю, к тебе ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу... Как именно потому, по роду этой страсти, я медлителен и неудачлив, и таков как есть...
Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай» (возвращение к «Крысолову».— Л. Г.). Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и—жестокая, и страшная». Скрестились любовь и творчество. Трехголосый роман в письмах организует и вдохновляет Цветаева. И она заражает двух других корреспондентов своей стилистикой. В этой переписке Пастернак тоже идет путем романтической приподнятости, безудержного метафоризма. И все же принцип словоупотребления у него другой, пастерна-ковский. Цветаева это чувствовала. «У нас разный словарь»,— говорит она в письме от 1 июля 1926 года, где жалуется на то, что долго не могла понять рассуждения Пастернака о «Крысолове». Стилистика писем Пастернака к Цветаевой порой напоминает язык его стихов. Прежде всего это употребление в одном контексте и на равных правах слов изысканных, поэтически приподнятых и самых обыденных, носителей всего того, что Пастернак в письме к Цветаевой называет житейщиной. А вперемежку с «житейщиной» стихоподобное одушевление вещей: «Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает» (5 мая 1926). Или непредсказуемые скрещения значений, пастернаков-ские познавательные синтезы: «Вот он твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью» (8 мая 1926). Перекликается со стихами описание городского лета в письме от 1 июля 1926: «Я боюсь лета в городе, потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийству-ющего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и извращена, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявленьем нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара». Здесь на равных правах и философская речь, и повседневная, и поэтические образы, и такие излюбленные Пастернаком неподходящие для стихов слова, как заблагорассудится. Увлекаемый потоком цветаевской патетики, Пастернак в то же время сохраняет особенности мышления, лежащего в истоках его стихового мира.
Подобное вторжение специфически пастернаковского поэтического мышления наблюдается и в письмах к Фрейден-берг. К 1910 году относится стихотворение Пастернака о московских заставах. В том же году (23 июля) он пишет Фрейденберг: «...Я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица, такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре,— переживает на проводах больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она взволнованная машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности... О заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданьем обязаны границе, начинающей не вымощенные словами духовные «пространства», и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю...»
Эти строки, предвосхищающие семантику сборников «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», написаны в пору самых ранних поэтических опытов Пастернака.
Но вот письмо к Фрейденберг гораздо более позднее, 1926 года (21 октября). В нем Пастернак подробно рассказывает о том, что собирается ставить в своей комнате перегородку, о цене этой перегородки и связанных с нею хлопотах. И вдруг происходит переключение. На повседневную речь о топке печей и высыхании штукатурки проецируется поэтическое мышление Пастернака. «...Стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях».
Переписка Пастернака с О. М. Фрейденберг имеет особое значение. Фрейденберг принадлежат замечательные письма— замечательные силой ума, таланта, остроумия, блестящей выразительностью своеобразного слога.
Отмечу заодно высокий эпистолярный уровень писем дочери Цветаевой Ариадны Эфрон, которую в тяжелейших условиях ссылки Пастернак поддерживал короткими письмами и денежными переводами.
Тональность писем Пастернака к Фрейденберг иная, чем его писем к Цветаевой; она соответствует эпистолярной тональности адресата. Если в письмах к Цветаевой единство интонации, то в письмах к Фрейденберг—пестрые языковые пласты: шутка, неологизм, язык обыденный, язык интеллигентского общения и язык философской, вообще теоретической мысли, поставленный на службу пастернаковской образности. Эта стилистика заставляет вспомнить высокую «болтовню» дружеской переписки пушкинской поры. В этом именно смысле о болтовне «веселой или грустной» говорит и сам Пастернак (21 октября 1926).
Особое значение переписке с Фрейденберг придает и ее временная протяженность—от 1910-го года до 1950-х годов.
Самые ранние письма—любовные. Со всем своеобразием любовных писем, обращенных к высокоинтеллектуальному адресату. «...Я влюблен в Меррекюль, нашу поездку, первый вечер... Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрестанно задавалось мне и тебе вдвоем—и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание» (23 июля 1910). Признание возникает из многих философских и психологических размышлений. И потому Пастернак заканчивает любовное письмо словами: «...прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий».
Любовная тема скоро уходит, на десятилетия остается дружеская переписка огромного биографического охвата. Это разговор с Фрейденберг обо всем—о жизни и смерти, о своем творчестве и ее научных работах, о трудном быте и семейных неурядицах, о семейном счастье со второй женой.
В переписке переплетаются две драматических судьбы— поэта и ученого. Над идеями Фрейденберг издеваются невежды, ее пытаются отлучить от науки. Удел Пастернака сначала постоянная нужда, мешающая работать неустроенность. Потом начинаются преследования. Тупая брань критиков. Пастернака перестают печатать. В зрелые годы — материальное благополучие, но ценой лихорадочной работы над переводами. Переводы Пастернака (Шекспир, «Фауст» Гете, грузинские поэты, многое другое)—драгоценное наследие. Но сквозь этот монументальный труд он только урывками пробивается к собственному творчеству. Он постоянно пишет о том, сколько ему нужно заработать для большой семьи, чтобы иметь возможность некоторое время писать свое. А свое остается в письменном столе. И в письме 1954 года (12 ноября) он говорит о своей «простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни». Так в письмах к Фрейденберг развертывается историческая трагедия Пастернака.
В своей совокупности эпистолярное наследие Пастернака являет разные типы письма, стилистику, меняющуюся в зависимости от периодов развития Пастернака и от его разных адресатов. Но у писем этих есть проходящие, сквозные мотивы и темы. Психологическое самоопределение, любовь и семья, мучительные и исполненные пафоса отношения с социумом. И важнейшая тема—творчество.
Сквозь письма проходит стремление подчинить поэзию прозе, отрицание своих стихов. Но подспудно это самоотрицание преодолевается неотменяемой влюбленностью художника в жизнь, во все ее «формы», над которыми он плачет «от торжества и ликования».
Из поздних писем Пастернака вырисовывается его отношение к роману «Доктор Живаго» как главному своему делу и единственному бесспорному достижению. Вырисовывается то высокое нравственное значение, какое имела для него работа над романом.
13 октября 1946 года Пастернак писал Ольге Фрейденберг: «Собственно это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского,— эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое».
Лидия Гинзбург
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Письма Пастернака представляют собой литературное воплощение его жизни и времени, не менее важное, чем его стихи и проза. Но подчас они более откровенны, поскольку его писательская профессиональная деятельность пришлась на эпоху, когда запрет на свободное выражение был частью повседневного обихода. Таким образом, письма Пастернака оказываются основным материалом для его биографии и в более широком плане, чем традиционно понимаемая переписка писателя, представляют собой реальную жизнь эпохи. Этим объясняется возможность публикации писем не как академического собрания, а как литературного целого, обращенного к широкому читателю.
Переписка Пастернака охватывает период в полвека и может составить несколько томов. Первые ее публикации привлекли большой интерес, они кардинальным образом изменили распространенный миф о Пастернаке как человеке отрешенном, далеком от бурь действительной жизни, замкнувшемся в узком кругу своего творчества.
В настоящее издание вошли несколько значительных линий переписки Пастернака, опубликованных за последние годы в различных сборниках и журналах. Его корреспонденты—известные люди, талантливые писатели, поэты и ученые— ведут в письмах к Пастернаку разговор о самом важном, о времени и роли искусства в современном обществе, о путях русской литературы.
Насколько возможно полно в этом разговоре мы старались дать оба голоса, с разных точек зрения освещающих события прошедшего пятидесятилетия. Это позволяло в то же время свести до минимума комментарий и услышать разговор со стороны, увидеть происходившее как бы заочно.
Собрание ни в коей мере, однако, не претендует на полноту: вследствие утерь в одном случае и закрытых фондов архивов—в другом. Кроме того, не располагая оригиналами, мы подключали иногда отрывки или не уточненные из-за недоступности подлинников копии, чтобы наметить хотя бы пунктиром направление разговора, доподлинно сейчас недоступного,— в надежде на будущие документированные дополнения.
Основное содержание книги составляет переписка Пастернака с его двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг, жившей в Петербурге и знаменитой своими работами по классической литературе. Впоследствии она стала заведующей кафедрой античных языков Ленинградского университета. Недостаточная комплектность писем Фрейденберг к Пастернаку пополнена выдержками из ее дневников, относящимися к содержанию переписки. Впервые полностью книга переписки двоюродных брата и сестры была издана профессором Пенсильванского университета Эл. Моссманом в Нью-Йорке (Harcourt Brace Jovanovich, 1981) на русском и английском языках. Выборочно она опубликована в журнале «Дружба народов», 1988, № 7—10. В настоящем издании эта переписка значительно расширена по сравнению с журнальным вариантом, частично использованы комментарии, сделанные Н. В. Брагинской.
Переписка Пастернака с Мариной Цветаевой в настоящее время не может быть издана сколько-нибудь полно. Основное количество писем Пастернака (около 100) закрыто для публикации до будущего века. Только письма 1926 года Цветаева выделила из всего собрания, передав в начале войны перед отъездом из Москвы на хранение А. П. Рябининой в сейф Гослитиздата. Рябинина отдала их нам перед смертью с просьбой издать их, не дожидаясь общего собрания переписки. Пастернак тоже перед отъездом в эвакуацию отдал письма Цветаевой на хранение в Скрябинский музей, где был сейф. Они были спасены от разгрома, которому подверглись его собственная квартира и архив во время отсутствия, но были потеряны в ноябре 1945 года в процессе копирования их А. Е. Крученых. Часть известна в копиях, кое-что сохранилось в оригиналах у коллекционеров. Для подготовки книги в 1976 году нам помогли в ЦГАЛИ выверить некоторые копии по текстам в черновых тетрадях Цветаевой и уточнить даты. В «Вопросах литературы» (1978, № 4) были опубликованы некоторые фрагменты книги, подготовленной при участии К. М. Азадовского для издательства Insel Verlag, где «Переписка 1926 года. Рильке, Цветаева, Пастернак» вышла на немецком языке полностью. С некоторыми сокращениями она была издана в журнале «Дружба народов», 1987, № 6—10. (Перевод с немецкого писем Пастернака к Рильке и Рильке к Пастернаку сделан Е. Б. Пастернаком, переписки Цветаевой с Рильке—К. М. Азадовским.)
___________
1 Дневники хранятся в семейном собрании Пастернаков в Оксфорде.
Чтобы кратко наметить значение центрального эпизода 1926 года в общей истории отношений и переписки Пастернака и Цветаевой, окруженной легендами нашего мифотворческого времени, мы дополнили известную часть несколькими письмами более раннего и более позднего времени, доступными по другим источникам. В первую очередь, это письма, частично цитированные дочерью Цветаевой, Ариадной Эфрон, в ее воспоминаниях о матери «Страницы былого» («Звезда», 1975, № 6), и письма, опубликованные ею по черновым тетрадям Цветаевой («Новый мир», 1969, Xs 4). Пополненные сохранившимися в копиях, они дают понятие о начале и конце переписки Пастернака и Цветаевой, во всей сложности их взаимного тяготения и неожиданных «разминовений».
Таким «разминовением» или «невстречей», по определению Цветаевой, было их свидание летом 1935 года в Париже, звучащее трагическим диссонансом в их последних письмах. Особой главой в биографии Пастернака была его переписка с А. М. Горьким. Она частично опубликована в томе 70 «Литературного наследства» «Горький и советские писатели», 1963. Не вошедшие в том письма, а также краткий очерк истории их знакомства приведены в «Известиях Академии Наук СССР» (Серия литературы и языка), т. LXIV, № 3, 1986. При полной благожелательности отношений Пастернака и Горького, их несомненном интересе друг к другу, переписка со всей отчетливостью говорит о границах их взаимопонимания. Обнаженная искренность исповедей Пастернака натыкается на загадочную прямолинейность горьковских вердиктов. Особую ноту в этих письмах составляет несогласие в оценке Цветаевой.
Веселой молодой дружбой веет от переписки Пастернака с Тихоновым, впервые публиковавшейся в томе 93 «Литературного наследства» «Из истории советской литературы 1920—30 гг.», 1983. Но по сравнению с первоначальной публикацией, мы дополнили переписку тремя письмами 1929— 1945 годов, одно из которых было утеряно Тихоновым, но у Д. Н. Хренкова сохранилась копия его первой страницы и была любезно предоставлена в наше распоряжение. К сожалению, в архиве Пастернака не сохранились письма Тихонова после 1926 года, которые могли бы приоткрыть нам причину расхождения старых друзей во второй половине 30-х годов. Разница их отношения к жизни обсуждалась еще в письме Пастернака к Цветаевой 11 июля 1926 года. Тогда же он писал жене, как далеко ему тихоновское «субъективное восприятие мира», которое со «здоровой простотой (как у гимназиста)» переводит страшные и грязные стороны действительности в романтику для «детей среднего возраста». Так же, как письма Пастернака к Цветаевой, письма к ее дочери Ариадне Эфрон (их около 60) закрыты ею в ЦГАЛИ до 2000 года. Предлагаемая подборка была составлена М. И. Белкиной в 1975 году для книги воспоминаний А. Эфрон, готовившейся в издательстве «Советский писатель» сразу вскоре после ее безвременной кончины. Книга не вышла в свет, подборка писем была опубликована в Париже под названием «Письма из ссылки»1 в 1980 году. В нее включены несколько писем Пастернака, копии которых были сделаны Ариадной Эфрон и сохранились у ее знакомых И. И. Емельяновой и М. И. Белкиной. В таком виде переписка появилась в журнале «Знамя» (1987, № 7—8) без имени составителя и указания на местонахождение материалов.
Для настоящего издания выбраны письма А. Эфрон, которые непосредственно связаны с имеющимися ответами Пастернака, сверены с оригиналами, причем в некоторых местах мы позволили себе сделать кое-какие сокращения, а письма Пастернака пополнить двумя текстами (1952—1955), оказавшимися у М. И. Белкиной в оригиналах и любезно нам пред оставленными.
Переписка Пастернака с В. Шаламовым подготовлена к печати и частично опубликована во «Встречах с прошлым» (1988) и в журнале «Юность» (1988, № 10) И. П. Сиротинской. В свое время В. Т. Шаламов ознакомил нас с полученными им письмами Пастернака и позволил снять с них копии. Мы не видели только первого, самого интересного и большого письма 1952 года, которое Шаламов собирался публиковать сам вместе со своими воспоминаниями и статьей. Письма Шаламова хранятся в семейном собрании и были нами предоставлены Сиротинской для публикации. Исключение составляет январское письмо 1954 года с подробным разбором первой книги «Доктора Живаго», которое вместе с архивом О. В. Ивинской попало в Музей Дружбы народов в Тбилиси и текст которого недоступен.
Сиротинская восстановила его по черновику Шаламова, хранящемуся в ЦГАЛИ. Мы несколько сократили корпус писем Шаламова, в некоторых местах купируя его текст в связи с ограниченным объемом издания, в других, однако, устраняя сокращения прежних публикаций. Как и переписка с А. Эфрон, письма Пастернака к Шапамову ложатся на период напряженной работы над романом «Доктор Живаго», и их лаконизм порою тонет в пространных ответах его корреспондентов, за которыми угадывается ежедневная и мучительная борьба за существование и жгучая, неутолимая потребность в духовном общении, которого они преступным образом были лишены.
________
1 Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Paris, Ymka, 1980.
--->>> |
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан