br> Раздел ХРК-074 Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ Стихотворения Воспоминания Записные книжки М.: Правда, 1988.— 480 е., ил. Вступительная статья и примечания А. Л. Зорина и Н. Г. Охотина Иллюстрации и оформление А. В. Озеревской и и А Т Яковлева
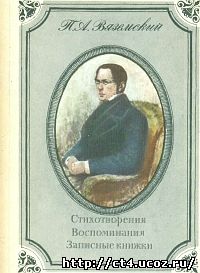
В сборнике известного русского поэта П. А. Вяземского (1792 — 1878) представлены стихотворения, воспоминания и записные книжки, являющиеся ценнейшими источниками изучения русской литературы XIX века.
* * *
Содержание:
А. Зорин, И. Охотин. «Я пережил и многое и многих...»
СТИХОТВОРЕНИЯ
ВОСПОМИНАНИЯ
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ Из «Старой записной книжки»
ФРАГМЕНТЫ
 Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ
«Я ПЕРЕЖИЛ И МНОГОЕ И МНОГИХ...»
«Недавно жил среди нас русский писатель, который во время оно проливал слезы, слушая «Семиру» Сумарокова, и смеялся вчера, слушая «Ревизора» Гоголя. Он был современником и учеником Княжнина и одним из литературных сподвижников в эпоху Карамзина. Он беседовал с Пушкиным и многими годами пережил его. <... > Во все течение этих долгих годов он был преимущественно, беспрерывно и почти исключительно писатель. У нас и особенно в наше время <...> подобный пример постоянного труженничества и долголетия уже сам по себе явление довольно замечательное»,—писал Вяземский в некрологе Сергею Николаевичу Глинке в 1847 году.
Слова эти не были традиционным поклоном умершему. Что значит для писателя пережить свою эпоху и какой ценой приходится ему платить за долголетие, Вяземский знал по себе. «Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет»,— утверждал он в открывающем этот том стихотворении «Я пережил». Но, разумеется, вступая в период, который много позже он ностальгически назовет «бодрой старостью», поэт не мог предполагать, что сроками жизни в литературе ему суждено превзойти не только Глинку. но едва ли не всех русских писателей. Воспользовавшись заданной им самим смысловой конструкцией, заметим, что Вяземский вошел в отечественную словесность еще при жизни Державина, а оставил ее за два года до рождения Клока.
* * *
Петр Андреевич Вяземский родился 12 июля 1792 года в Москве, в богатой аристократической семье, равно гордившейся своим происхождением от удельных князей и способностью стать наравне с веком Просвещения. Знатность рода, связи, состояние, доступность самого совершенного по тем временам в России образования (профессора Московского университета читали ему лекции на дому) открывали перед ним возможность блистательной карьеры на любом избранном поприще. Предназначая сына к серьезной государственной деятельности, князь Андрей Иванович стремился дисциплинировать его ум точными науками. Но эти усилия, однако, остались бесплодными, ибо склонно-черпывают им написанного, а тысячи и тысячи писем, значительная часть которых, предназначаясь для широкого распространения, носила явно литературный характер, способны увеличить этот объем но крайней мере вдвое1. Очевидно, что это не продукция ленивого дилетанта. Семь десятилетий Вяземский не выпускал из рук пера, оставаясь, как он сам выразился о С. Глинке, «преимущественно, беспрерывно и почти исключительно писателем». Другое дело, что ему так и не удалось найти и реализовать себя ни в одном из «престижных» жанров, составлявших в его эпоху репутацию писателя.
В «Автобиографическом введении» Вяземский вспоминает о двух эпизодах из своей жизни, когда ему удавалось преодолеть привычку писать «урывками» и предаться «довольно постоянной деятельности»: участии в 1827—1828 гг. в издававшемся Н. А. Полевым «Московском телеграфе» и работе над биографией Фонвизина. «Журнальная деятельность была по мне,—вспоминал Вяземский о периоде своей «телеграфической» активности. <...> — Не было недостатка в досаде, зависти и брани прочих журналистов <...> все подстрекало, подбивало меня. Я стоял на боевой стене, стрелял из всех орудий, партизанил, наездничал и под собственным именем и под разными заимствованными именами и буквами <...> Потеха да и только». Иронический тон этого признания, во многом вызванный последующим разрывом и враждой с Полевым, не может заслонить искреннего энтузиазма, который вызывали у Вяземского обязанности полемиста. По приведенному им мнению Пушкина и Мицкевича, он был «рожден памфлетером», ибо видел в выплескивающихся на журнальные страницы спорах вместе со всей поднимающейся пеной и накипью органическую ткань литературного, а в свободном обществе и исторического развития. «Ввести жизнь в литературу и литературу в жизнь казалось мне всегда привлекательною и желанною задачею»2,—писал впоследствии Вяземский. Журналистика и была для него первичным средством решения такой задачи. Еще более глубоко подошел он к ней в написанной им через три года после прекращения сотрудничества с Полевым биографии Фонвизина.
«Никогда письменная работа, ни прежде, ни после, не была для меня так увлекательна»,—вспоминал Вяземский творческий подъем, пережитый им во время московской холеры. Глубокие историко-литературные изыскания позволили ему создать новаторскую биографию, показать жизнь и творчество писателя на фоне тех «больших житейских течений», вне которых, по мысли Вяземского, не может успешно развиваться литература. При ретроспективном взгляде можно сказать, что портрет екатерининской эпохи, нарисованный Вя-
1 До настоящего времени опубликовано свыше полутора тысяч писем Вяземского, по большей части — в различных журналах и сборниках. Только переписка с А. И. Тургеневым и отчасти с В. Ф. Вяземской издана отдельно: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб, 1894 — 1913.
Тт. 1—5; Архив братьев Тургеневых. Пг„ 1921, вып. 6.
2 Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х тт. М., 1982. Т. 2. С. 36.
земским в «Фонвизине», стал своего рода подготовкой к той гигантской реконструкции времен собственной молодости, которую он предпринял в позднейшей мемуаристике, реконструкции, ставшей подлинным делом его жизни.
В целом можно, пожалуй, сказать, что творческая энергия Вяземского тех лет была направлена на решение внутри литературных задач, на обеспечение нормального функционирования литературы как живого организма. Не осуществившись в полной мере как поэт или тем более прозаик1, он был (особенно учитывая европейский литературный фон) вполне профессиональным литератором. Но именно эта разновидность профессионализма воспринималась в ту пору в России, а главное, осознавалась самим писателем как разновидность дилетантства. Недаром полный текст биографии Фонвизина так и остался под спудом и был опубликован, да и то по случайным обстоятельствам, только через шестнадцать лет после завершения — в 1848 году.
Немаловажно, что тс же черты определяли и общественную деятельность Вяземского. Если не считать занятого им в 1807 году места в Межевой канцелярии, которое, по-видимому, было чистой синекурой, служить он начал поздно — двадцати пяти лет. До этого на его счету числилась лишь очень кратковременная служба в Мамоновском полку во время Отечественной войны и участие в Бородинской битве, критичный и полный юмора рассказ о котором он оставил в «Воспоминаниях 1812 года». Столь длительному бездействию были свои причины. Мало принуждаемый к службе экономической необходимостью, Вяземский долго не мог найти места, которое бы соответствовало уровню его политических притязаний. Только в 1818 году ему показалось, что он набрел на искомое в варшавской канцелярии Н. Н. Новосильцева. Царство Польское служило в ту пору лабораторией для конституционных замыслов Александра I. Вяземский участвовал в переводе на русский язык возбудившей огромные общественные ожидания речи царя на сейме и проекта конституции
1 В «Старой записной книжке» есть следующая автохарактеристика Вяземского: «Почему не напишете вы романа? — спрашивали NN.—Вы имели столько случаев узнать коротко свет, жизнь и людей, ознакомились с обществом на разных ступенях; имеете наблюдательность и сметливость».— «А не пишу романа,—отвечал NN.,—потому что я умнее многих из тех, которые пишут романы. Мой ум не столько произрастительный. сколько сознательный и отрицательный. Подобные умы знают положительно, чего сделать они не могут» (Полн. собр. соч., т. VIII. С. 129). Именно «сознательный» ум Вяземского, аналитическая сторона его дарования выказались в переводе романа Бенджамена Констана «Адольф» (СПб., 1831) —в работе, для успешного выполнения которой надо было, по словам Пушкина, «победить трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного» (Полн. собр. соч. М. —Л., 1949. Т. XI. С. 87). «Произрастительные» качества Вяземского-прозаика так и остались невоплощенными: от его оригинальных «романных» начинаний, относящихся, видимо, к тому же 1831 году, остались лишь незначительные фрагменты (см. Полн. собр. соч., Т. IX. С. 94—95).
для России. Не остался он в стороне и при составлении записки об отмене крепостного права, поданной царю в 1819 году.
Возобладай в правительственной политике либеральные тенденции, служебная и политическая карьера Вяземского могла бы резко пойти в гору. Однако этого не случилось: на пороге третьего десятилетия в государственной идеологии уже четко обозначилась консервативная ориентация, характерная для последних лет царствования Александра I. «Из рядов правительства очутился я, невольно и' не тронувшись с места, в ряду противников его. Дело в том, что правительство перешло на другую сторону»',—объяснял впоследствии Вяземский поворот, происшедший в его судьбе. Своему негодованию он дал выход в целом ряде исключительно резких политических стихов и письмах на родину, которые по его замыслу должны были получить широкое хождение в обществе. Он знал, что эти письма перлюстрируются, и поддавал жару, рассчитывая таким образом донести до правительства масштабы ропота. В воспоминаниях о варшавском периоде своей жизни Вяземский рассказал, как напряженно следил он в те годы за французской периодикой, «особенно любуясь и увлекаясь красноречием ораторов левой стороны: Бенжамена Констана, генерала Фуа, Казимира Перье и других передовых сподвижников конституционного порядка»2. При отсутствии легальной оппозиции и свободной печати перлюстрируемые письма становились для него гражданской трибуной. Это был своего рода политический дилетантизм, естественно приведший в 1821 году к отстранению Вяземского от службы и к удалению его из Варшавы.
Казалось бы, конституционалисту, автору возмутительных стихотворений и писем прямое место в декабристском движении, набиравшем силу в те годы. Так же думали, вероятно, и ведущие заговорщики, предпринимавшие попытки завербовать Вяземского в свои ряды. Однако попытки эти наткнулись на решительный отпор. «Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя»5,— формулировал Вяземский причины своего принципиального неприятия конспиративной тактики. Свобода личной воли и критического суждения была для него не то чтобы важнее освобождения страны, но она становилась тем непременным условием, без которого подобное освобождение попросту не могло быть достигнуто, и только поражение декабристов и суд над ними заставили Вяземского горестно вздохнуть над тем, что ему не дано было разделить судьбу бунтовщиков.
«Жалею, что чаша Лсвашева (член следственной комиссии по делу декабристов,— А. 3., Н. О.) прошла мимо меня и что я не имею случая выгрузить несколько истин, остающихся во мне под спудом,— писал он Жуковско-
1 Вяземский Г1. А. Записные книжки. М„ 1963. С. 151.
2 Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. II, Пб„ 1879. С. XVII.
му.— Не думаю, чтобы удалось мне обратить своими речами, но сказав их вслух тем, кому ведать сие надлежит, я почел бы, что недаром прожил на свете и совершил по возможности подвиг жизни своей»1. «Подвигом жизни» могло стать для Вяземского не категорически отвергаемое им участие в революционном действии, но правда, презрительно сказанная в лицо палачам без малейшей надежды произвести на них впечатление. По сути дела, Вяземским двигало здесь то же побуждение, которое заставило его обрушиваться с инвен-тивами на власти в подлежащих перлюстрации письмах, но только доведенное до трагически-парадоксальной ясности.
«Образ мыслей в человеке должен более или менее зависеть от событий и положения, которое он занимает: один образ чувств должен быть неизменен и независим»2,— заметил Вяземский в 1827 году. Действительно, его образ мыслей с годами изменился едва ли не на диаметрально противоположный, но выкристаллизовавшийся в тени петропавловских виселиц стоический индивидуализм и презрение к торжествующему большинству, к уверенной в себе силе и победительной наглости сохранились в нем до конца жизни.
В статье под ставши,м классической формулой для определения позиции молодого Вяземского заголовком «Декабрист без декабря» С. Н. Дурылин заметил, что скепсис поэта был направлен «не только направо на правительство, но и налево на революцию», и подчеркнул, что «это и есть основное свойство скепсиса — всегда быть направленным всюду Чрезвычайно важно, однако, подчеркнуть, что этот «направленный всюду» скепсис, составивший основу «неизменного и независимого образа чувств» Вяземского, в свою очередь, имел ясные историко-философские корни. Он оказался столь мощным и устойчивым, ибо был взращен на добротной вольтерьянской закваске.
В отношении к самому Вольтеру Вяземский прошел сложный и в общем не редкий для человека его эпохи путь от юношеского обожания к острому, хотя и всегда уважительному спору. Можно, пожалуй, сказать, что с годами поэт распространил завещанный фернейским философом скептицизм на самого учителя. Распространение это оказалось плодотворным — именно в поздней статье «Ферней» Вяземский дал поразительную по своей глубине характеристику Вольтера, которая, определяя одновременно психологический состав вольтерьянства, имеет для нас значение самоописания: «Он родился вовремя. Родись он ранее, его, может быть, сожгли бы; умри он несколько позднее, его бы гильотинировали как аристократа. Вольтер был умозрительный революционер; но в житейских условиях он был консерватор и дворянин, пожалуй, барин и помещик»4.
1 Остафьевский архив. Т. V, По., 1913. С. 161.
2 Вяземский П. А.' Полн. собр. соч. Т. II. С. 7.
3 К у танов Н. < Дурылин С. Н.> Декабрист без декабря. // Декабристы и их время. М.. 1932, вып. II. С. 241.
4 Полн. собр. соч. Т. VII. С. 53—56.
Вяземский родился не вовремя, а главное, не в том месте. Его не сожгли м не гильотинировали, но судьба сумела по-своему отомстить ему за тщеславную надежду властвовать пером над умами современников. Вынужденный, по условиям николаевского времени, проситься в 1828 году обратно на службу, он после долгих мытарств получил место не по министерству народного просвещения или министерству юстиции, на которое он рассчитывал, но по министерству финансов. «Что дано мне от природы — в службе моей подавлено, отложено в сторону: призываются к делу, применяются к действию именно мои недостатки. У меня нет никакой способности к положительному делопроизводству, счеты, бухгалтерия, цифры для меня тарабарская грамота, от коей кружится голова и изнемогают все способности, все силы умственные и духовные: к ним-то меня и приковывают роковыми кандалами»,— писал Вяземский. Разумеется, от него не укрылись ни расчетливо издевательский характер этого назначения, ни его связь с общим положением дел в стране.— Все это противоестественно. а именно потому так и быть и должно, по русскому обычаю и порядку. Правительство наше признает послаблением, пагубною уступчивостью советоваться с природными способностями и склонностями человека при назначении его па место <...> К тому же тут действует и опасение: человек на своем месте делается некоторою силою, самобытностью, а власть хочет иметь одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от его воли»
Необходимость впрячься в «финансовый хомут», который, считая службу в Государственном заемном банке, ему пришлось нести четверть века, Вяземский переживал тем острей, так как чувствовал, что эта мера отдаляет его от периодически возрождавшихся в 30-е годы преобразовательных замыслов, в какой-то мере изолирует от умственной жизни страны. Однако при жизни Пушкина такая изоляция все же не могла быть полной. Вяземский активно сотрудничает в «Литературной газете» Дельвига, затем в пушкинском «Современнике», принимает участие в борьбе так называемой литературной аристократии с торговым направлением.
Хорошо известно, что, подхватив пущенное их противниками прозвище литературных аристократов, писатели пушкинского круга понимали его по-разному2. Пожалуй, именно Вяземский был склонен понимать эти слова наиболее буквально. Вообще говоря, его политическое свободомыслие не распространялось на литературную сферу, которую он представлял себе как своего рода феодальное государство, в котором верховный владыка «царствует и управляет», опираясь на «сильную и умную олигархию»3. Так, по мнению Вязем-
1 Вяземский П. А. Записные книжки. С. 298—299.
2 О пушкинском круге и месте в нем Вяземского см. работы М. И. Гил-лельсона «П. А. Вяземский. Жизнь и творчество». — Л.. 1969, и «От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей». Л., 1974.
3 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 320, 312.
ского, строилась литература, когда он вступил в нее при Карамзине, так она и должна была строиться теперь при Пушкине. Конечно, литературная олигархия была для поэта прежде всего «аристократией талантов», и он с удовольствием применял к современной ему полемике мысль Д'Аламбсра о «существующем искони заговоре посредственности против превосходства»'. И все же такое «превосходство» обеспечивалось, по Вяземскому, причастностью к глубинным культурным традициям, доступ к которым не в последнюю очередь —он знал это по себе — открывали сословные привилегии.
Исследователи Вяземского неоднократно подчеркивали, что если в 20—30-е годы мишенью его выпадов оказывались, как правило, литературные ретрограды и издания официозного толка, то позднее он ведет борьбу в основном с демократической печатью. Существенно, однако, что субъективные установки Вяземского-полемиста меняются мало: и здесь, и там он видел перед собой наступление бескультурного большинства, грозящее самому существованию дорогах ему традиций. «В мире политическом анархия ведет к деспотизму смелого хищника: в литературном мире ниспровержение законов ума и вкуса, возмущение анархического своевольства против нравственных и умственных властей бывают также введением к лже-царствию невежества»,—писал он в рецензии на «Историю русского народа» Н. П. Полевого, чей бунт против памяти Карамзина, воспринятый Вяземским как государственная измена, послужи;! причиной его разрыва с издателем «Московского телеграфа». В фигуре Полевого, быстро перешедшего после закрытия журнала от молодого радикализма к союзу с Булгариным и Гречем, олицетворялись для поэта взаимосвязь и взаимозаменяемость обоих враждебных ему лагерей.
Впрочем, одно весьма значительное изменение в самоощущении Вяземского все же произошло. Если до гибели Пушкина он, отстаивая позицию сплоченного круга писателей, еще борется за победу, то после 1837 года он все в бол'ьшей и большей мере утрачивает веру в успех своего литературного дела, а потом и надежду вообще быть услышанным, добровольно выбирая для себя роль часового, призванного стоять на страже брошенной крепости. В том же году, что и Пушкин, умирает И. И. Дмитриев, в 1839 году уходят из жизни Д. В. Дашков и Денис Давыдов, в 1844-м — Крылов и Баратынский, в 1846-м — Александр Тургенев и Языков, в 1852-м — Жуковский и Гоголь, в 1865-м — Северин и Плетнев. «Не мои дела, не мои труды, не мои победы празднуете вы.— говорил Вяземский в 1861 году на пятидесятилетнем юбилее своей литературной деятельности <...> —На литературном поприще <...> я живое воспоминание великой эпохи. Я напоминаю вам, милостивые государи, имена ее, имена Карамзина, Жуковского, Пушкина и некоторых других знаменитых ее деятелей, сих воинов мирного, но победительного слова. <...> Это не заслуга, но это право на сочувственное внимание ваше. Вы вменяете
1 Полн. собр. соч. Т. I. С. 67.
мне в заслугу счастие, которое сблизило и сроднило меня с именами, вам любезными и с блеском записанными на скрижалях памяти народной»1.
Скромное празднование юбилея Вяземского, встреченное к тому же насмешливыми отзывами большинства журналов, было, кажется, его последней и вполне безнадежной попыткой преодолеть все углубляющееся литературное одиночество, горечь от которого усиливалась и личными трагедиями — из восьми детей ему довелось похоронить семерых,— и катастрофической неудачей его государственной деятельности.
Смерть неприязненно относившегося к Вяземскому Николая I открыла перед писателем возможность получить службу, более соответствующую его склонностям. В 1855 году он был назначен товарищем министра народного просвещения, а вскоре фактически возглавил цензурное ведомство.
В конце 1830-х — начале 1840-х годов Вяземский внес в одну из своих записных книжек рассказ героя неоконченного отрывка Пушкина «Записки М» о том, как он поклялся «быть вечно верным дружбе к человечеству и никогда не принимать должности ценсора»1. Пренебрежение этим заветом друга стоило писателю дорого. Как показывают опубликованные посте смерти Вяземского его докладные записки о деятельности цензуры, был он цензором скорее либеральным, стремившимся к расширению области гласности в литературе3. Однако современники не знали этих подробностей да и не особенно интересовались ими. На Вяземского падала ответственность за любые,запретительные меры русской цензуры и за характер ее деятельности в целом. При этом он вызывал подозрение и у консервативных кругов, напуганных общественными реформами, запланированными правительством Александра II. «Кому кажусь «в оттенке алом», // Кому же выжившим из лет //Ив тупоумьи запоздалом, //Не знающим: где тьма, где свет?» — писал Вяземский о своем положении в обществе. Его отрешение от должности в 1858 году было встречено общим энтузиазмом. За писателем остались, правда, почетные придворные должности, право на которые давали ему знатность и многолетняя служба, по реального участия в государственной деятельности он не принимал уже больше никогда.
Последние два десятилетия жизни Вяземский проводит в основном за границей в непрестанных разъездах. По привычке он еще следит за тем, что происходит в отечественной словесности, но сама она постепенно перестает откликаться на его работу. С середины 60-х годов он уже никому не «казался в оттенке алом», но единодушно воспринимался как неисправимый ретроград, утративший всякую связь с живой жизнью.
Вяземский любил цитировать слова Вольтера о том, что люди, «не имеющие ума своего возраста, пожинают все несчастья этого возраста». «Люди, не
1 Полн. собр. соч. Т. VII. С. 84.
2 Вяземский П. А. Записные книжки. С. 269.
3 См. Поли. собр. соч.. T.VII. С. 16—51. См. также М. И. Гиллсль-с о н. П. А. Вяземский. С. 337—343.
имеющие ума своего века, еще более жалки и смешны» \— добавил он в 1822 году. Сам он в высшей степени обладал умом своего века, но наступил чужой век. и, доживая в нем «кунсткамерным гиппопотамом» миновавшей эпохи, он казался смешным и жалким новой молодежи.
Между тем именно в эти годы дар Вяземского достиг, наконец, полной зрелости. Всем ходом своей духовной эволюции он оказался подготовлен к той роли, которую выделила на его долю судьба, послав ему, никогда не отличавшемуся несокрушимым здоровьем, неожиданное долголетие. Некогда он безропотно, хотя и не безболезненно, уступил пальму первенства Жуковскому и Пушкину, теперь, «простой рядовой, который уцелел из побоища смерти и пережил многих знаменитых сослуживцев»2, он волей-неволей должен был выступить на первый план и ответить перед лицом настоящего и будущего за целую эпоху.
Заядлый спорщик и ниспровергатель, Вяземский, после смерти Пушкина теснимый новой литературной генерацией, избирает не привычный для него наступательный путь открытой журнальной борьбы, а сложный отходной маневр в недоступную молодым «журнальным наездникам», но родную ему самому область биографической прозы. В отличие от былых его работ о Дмитриеве, Озерове, Фонвизине, где биография подчинялась задачам литературной критики, в статьях 40-х годов отчетливо слышится исторический и мемуарный акцент. История и память становились основанием для неприятия современности, биографический жанр — формой отрицания «литературы, переродившейся в журналистику»5.
Привыкание Вяземского к роли «свидетеля» и «ответчика» за свою эпоху идет в одном ритме с постепенным исчезанием его поколения из жизни и литературы: заметки о П. Б. Козловском (1840), С. Н. Глинке, Н. М. Языкове (1847) — это вехи утрат, надгробные слова, важные прежде всего для самого поэта (недаром он далеко не всегда печатал написанное). Однако биографические очерки Вяземского этих лет нельзя толковать однозначно, как рубежи отступления на литературную периферию; в его новой позиции таился глубокий, хотя, может быть, и бессознательный, стратегический смысл.
«Биографическая часть, которая придает литературе так много красок, движения и личности,— писал Вяземский в 1847 году,— была долго у нас в совершенном забвении. <...> Ныне биографическая любознательность пробудилась»4. Действительно, со второй половины 40-х годов биографическая и мемуарная литература о карамзинской и пушкинской эпохе постепенно набирает силу. К середине пятидесятых наряду с воспоминаниями сверстников Вяземского—Ф. В. Булгарина, М. А. Дмитриева, С. Т. Аксакова, Ф. Ф. Вигеля,
1 Полн. собр. соч.. Т. I. С. 80.
2 Там же. Т. VII. С. 67.
3 Там ж е. Т. II. С. 367.
4 Там же. Т. И. С. 301.
С. С. Уварова, Н. Д. Иванчина-Писарева и других начинают появляться биографические труды людей иного, чуждого Вяземскому поколения. Разыскания В. П. Гасвского о Дельвиге, П. В. Анненкова и П. И. Бартенева о Пушкине, работы М. Н. Лонгинова, А. Д. Галахова, Е. Я. Колбасина. а чуть позднее публикации в «Библиографических записках» и особенно в «Полярной звезде» Герцена и Огарева уже не только вводили в обиход новый исторический материал, но и, вольно или невольно, давали прошлому новые, осовремененные и при этом весьма несходные интерпретации. Недавняя литературная периферия становилась ареной напряженной борьбы за культурное наследство. Вяземский, с его сознанием естественного и авторитетного судьи, с его темпераментом полемиста, должен был отозваться и отозвался на многие события этой затяжной войны, перенесенной на его исконную территорию. По существу, «судейские» функции Вяземского обозначились уже в 1846—1847 годах в заметках о Карамзине, в статьях «Языков и Гоголь» и «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»: предназначенная им для себя роль сводилась, с одной стороны, к исправлению фактических неточностей и концептуальных искажений, а с другой — к сообщению новой и правильной информации о предмете. Верификатор («справщик»), блюститель «литературных приличий», идеологический надсмотрщик — и информант, носитель бесценных исторических знаний,— этими двумя взаимодополняющими ипостасями определяется позиция писателя в эпистолярной и отчасти стихотворной полемике 1850-х годов'-, из них же складывается облик Вяземского — мемуариста и биографа в следующие два десятилетия.
Выработав в 40-х годах свое отношение к жанру, написав даже несколько биографических и мемуарных очерков. Вяземский — сказались ли тут служебные занятия, или интенсивная работа над серией политических статей, посвященных проблемам Восточной войны,— в 50-х годах не делает дальнейших шагов в этом направлении. Зато их делают другие: в 1858-м ему грозит участь сделаться предметом солидного биографического изучения. «Дайте мне средства быть вашим биографом,— пишет Вяземскому его давний знакомец, поэт и профессор Московского университета С. П. Шевырев—Вы теперь старшее звено, связующее всю нашу литературу. Около вашей биографии скуется почти вся наша словесность, за исключением разве Ломоносова да Кантемира»2. Этот проект и смешит, и огорчает престарелого поэта, и немного льстит ему. Примеривая тогу официальной биографии, Вяземский задумчиво улыбался: «Мой биограф,—быть может Шеяырёв, II Меня, давно забытого молвою, II Напомнит вновь вниманью земляков...3. И хотя намерение Шевырева не осуществилось.
1 В это время создан целый ряд поэтических воспоминаний Вяземского о Батюшкове («Зонненштейн»), Пушкине («Поминки»), Д. Давыдове («приписка» к «Эперне») и др. Некоторые стихотворения носят откровенно полемический характер (например. «Литературная исповедь»).
2 Старина и Новизна, СПб., 1901, кн. 4, с. 168 (письмо от 28 мая).
3 Полн. собр. соч. Т. XI. С. 50.
Вяземский с этого времени, видимо, всерьез обдумывает возможность большой работы о себе и своем времени.
Систематичность никогда не была в числе добродетелей Вяземского. На настоящие последовательные мемуары его не хватало. Ему всегда был нужен конкретный повод; таким поводом могли стать смерть друга, юбилей, прочитанная книга, разговор, письмо. Только так, цепляясь за выступы реальности, используя ступеньки ассоциативных сопоставлений, он строил и надстраивал причудливые конструкции своих воспоминаний. Раньше для «прозаического» самовыражения Вяземскому в общем-то хватало эпистолярной «отдушины»; теперь его почтовая проза становится все бедней — и числом, и содержанием: вымирают корреспонденты, с которыми он мог говорить на равных. В начале 60-х его полемический темперамент еще находил выход в политической публицистике (на сей раз по польскому вопросу), но постепенно отпадает и это. Остаются поэзия и воспоминания. Его работа над прозой с середины десятилетия становится более ре1улярной. Этому способствовали и внешние обстоятельства.
В 1863 году историком П. И. Бартеневым был основан «Русский архив», первый в России журнал, ставивший перед собой собственно публикаторские задачи. Вяземский был публикатором со стажем: ряд исторических документов был введен им в оборот еще в книге о Фонвизине и в связи с работой над ней, а кроме того, в 1836 и 1844 годах он подготовил к печати, правда, так и не вышедшие в свет сборники «Старина и Новизна». В издании Бартенева Вяземский также начинает с публикаций. На страницы журнала постепенно перекочевывают ценнейшие материалы семейного архива. Но со временем Вяземский начинает печатать здесь и мемуарные статьи, и исторические заметки, и —в 1872 —1877 годах — отрывки из своей «Старой записной книжки»: максимы., исторические и бытовые анекдоты, bon mots, выбранные им из старых писем, дневников, статей. Вплоть до самой смерти он остается одним из самых активных вкладчиков журнала Бартенева, а сам Бартенев постепенно становится его основным корреспондентом и собеседником.
Разумеется, «Русский архив» был изданием малотиражным, рассчитанным на сравнительно узкий круг знатоков и любителей истории. Но это не смущало Вяземского. «Есть и меньшинство, надобно и о нем подумать, а не приносить его беспощадно в жертву силе и числу»— писал он в мемориальной приписке к старой статье об И. И. Дмитриеве. Готовый открыть для ценителей богатейшие кладовые своей памяти, для «большинства» Вяземский был отнюдь не добродушным старичком. Его как бы обращенные в прошлое заметки были наполнены уколами и укорами в адрес современности. Сам отбор материала и способ его «подачи» становились средством полемики.
1 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 362.
2. П. А. Вяземский
Читая биографические очерки и воспоминания Вяземского, его «Старую записную книжку», невольно задумываешься: кто он — мемуарист, историк, моралист, коллекционер анекдотов? Для мемуариста он чересчур концептуален и не увлечен своим «Я», как историк он слишком мало обращает внимания на крупномасштабные события в государстве, как моралисту ему явно мешает любовь к частностям и исключениям, для коллекционера же в нем слишком много разборчивости и вкуса. В целом его очерки выглядят как собрание иллюстраций, концептуальных соображений, портретов отдельных действующих лиц, предназначенное для некоего ненаписанного исторического повествования. Виден уже его абрис, обозначена тема, но не вылеплен еще хребет, не установлена иерархия событий, не согласована хронология. Стоит ли говорить, что предмет этого большого гипотетического исследования отнюдь не совпадает с привычной тематикой официальных да и либеральных исторических работ? Вяземского, естественно, интересует именно то, чего в них нет (поэтому с уверенностью можно сказать, что и «становая» часть его собственного труда никогда бы не была выполнена: негативизм Вяземского распространялся на принятые историографические формы так же, как и на содержание). У Вяземского-историка мы не найдем ни «истории событий», ни «истории процессов»; политическая жизнь и социальное развитие волнуют его лишь постольку. поскольку они являются необходимым фоном для его основной темы, которую можно назвать «русский человек в его домашнем и общественном быту».
В исполнении Вяземского тема эта лишена археологического педантизма: составлять мертвый инвентарь бытовых деталей он предоставляет другим. Для него же в первую очередь интересно поведение человека в разных сферах быта. Во времена молодости Вяземского бытовое поведение, весьма подробно регламентированное и значимое во всех своих аспектах, занимало важное место в системе культуры. На службе и при дворе, на службе или на балу, в разгульной дружеской компании и в чинном литературном салоне реализовались разные модели поведения; набор их и содержание существенно сдвигались от поколения к поколению. Понимая это и подозревая (не без основания), что существующая только в сознании «носителей» поведенческая специфика его эпохи, невнятная уже и младшим современникам, неминуемо выпадет из круга рассмотрения историков, Вяземский стремится ее понять, описать и тем самым сохранить в памяти культуры.
И в ретроспекции Вяземский верен своему пристрастию ко всему неофициальному. Умея понимать и ценить «героическое», «государственное», «серьезное», он предпочитает роль хранителя «домашних», житейских преданий. Чудачества, странности, страстишки, карточные, гастрономические и вакхические подвиги знаменитых мужей занимают в его рассказах место значительно большее, нежели их государственные труды и воинские победы. Здесь, впрочем, нет и намека на «скандалёзность»: просто Вяземскому оригинальность бытового поведения кажется историческим явлением, заслуживающим не меньше внимания, чем дела и поступки, которые традиционно считаются достойными упоминания в отечественных летописях. Недаром так часто он пишет о людях, официально «не состоявшихся», чья слава основывалась на умении придать своим поступкам характер эстетического акта. «Ты мастер жить» — эти обращенные к И. И. Дмитриеву слова Карамзина понимались Вяземским не только как синоним удачливости, но и как признание бытового артистизма, причисляемого им к достоинствам Дмитриева наравне с его поэтической и министерской деятельностью.
«У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. ...Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев, замечательных и метких остряков. Но все это выдыхается и забывается, а написанные пошлости на веки веков прикрепляются к бумаге»,— пишет Вяземский в «Старой записной книжке». Сплошное чтение его поздней прозы показывает, однако, что важно для автора отнюдь не только противостояние хорошего и дурного. Гораздо более занимает его полемическое противопоставление книжной литературе в целом—литературного быта и бытовых форм словесности. Противопоставление это нужно Вяземскому, чтобы подчеркнуть неотьемлемость права этих, гго видимости вторичных и периферийных явлений на отнюдь не последнее место в литературном и, шире, в культурном процессе. Арзамасские протоколы, стихи Неелова, анонимные «амфигури», подробности писательского быта и поведения и многое еще из того, что «выдыхалось и забывалось» его младшими современниками и ближайшими потомками, было заботливо подобрано и сохранено Вяземским. И хотя до сих пор еще иногда приходится отстаивать идею равнозначности для истории культуры явлений «центральных» и «периферийных», правота Вяземского несомненна, а его «охранительная» деятельность заслуживает восхищения и благодарности.
Проблема литературы неотделима в поздних текстах Вяземского от проблемы языка. И здесь его внимание приковано к явлениям, для 60—70-х годов как бы периферийным. Бытовое острословие, каламбуры, языковые курьезы для Вяземского порождения стихии устной речи, которая в словесной культуре его эпохи осознавалась функционально не менее значимой и эстетически не менее ценной, нежели книжный слог1. Сам любовно собирая образчики устного языкового творчества, Вяземский подталкивает на это и других: «Надобно, чтобы друзья его <Ф. И. Тютчева.— /!. 3., Н. О. > составили по нем Тютчеви-ану, прелестную, свежую, живую, современную антологию. Каждое событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее перед ним, иллюстриро-
1 Об этом см.: Паперно И. А. О реконструкции устной речи из письменных источников (кружковая речь и домашняя литература в пушкинскую эпоху).— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1978, вып. 442. — с. 122—134; Л о т м а н Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи.—Там же. 1979, вып. 467. С. 26—43.
ваны и отчеканены его ярким и метким словом»,— писал он Бартеневу в 1873 году1. Однако устное слово и языковая игра не были для Вяземского только предметом коллекционирования (хотя бы и полемически тенденциозного); он далеко не ограничивался цитацией своих старых запасов, но постоянно использовал все новые элементы устной языковой стихии в своих литературных конструкциях.
Вообще в 70-е годы работа Вяземского над словом необычайно напряженна. Своего рода лабораторией стиля для него становится «Старая записная книжка». Лишь минимальное число публикуемых им отрывков он берет готовыми из своих настоящих записных книжек (начатые в 1813 году, они только в ранний период заполнялись жанрово однородными текстами, бесспорно предназначенными для литературного функционирования); подавляющее большинство записей автор вычленяет из «сырого» эпистолярного и дневникового материала.
Избранный Вяземским жанр требовал чрезвычайно ответственного отношения к форме: при отсекании контекста фрагмент освобождался и от значительной части идеологического содержания. Форма замыкалась на себе, становилась самоцелыюй. предполагая предельную отточенность фразы2. Работа над «Старой записной книжкой» давалась Вяземскому нелегко. «Чем более и, так сказать, внимательнее пишу, тем более убеждаюсь, что язык наш может быть богат, а не тароват,— писал он Я. К. Гроту 5/17 апреля 1877 года.— Без особенного труда и насилия от него ничего не доберешься. <.„> Наш язык как-то мало общежителен, вежлив: в нем мало политичности и галантерейности, сказал бы Осип Ревизора. Наш язык, как земля наша, богат сырыми материалами— <...> тяжеловесными, громоздкими. Всё у нас сырье. Язык наш ветхозаветный. а не новозаветный. Он тянется на долгих и на колесах, а не мчится по рельсам и на парах. У нас нет разговорного, драматического языка. Едва ли есть и повествовательный. Одно между прочим: у нас почти нет синонимов, следовательно, нет оттенков для выражения мысли и чувства. Везде выходит китайская колоризация, иногда свежая и яркая, но вообще аляповатая, грубая» '. Странно читать такое, когда знаешь, что в ту же эпоху писали Тургенев. Лев Толстой, Достоевский, Островский. Но претензии Вяземского к русскому литературному языку объяснялись не «сварливым старческим задором», с которым он готов был осуждать всё принадлежащее новому времени, а действительными трудностями. Пожалуй, только в прозе Пушкина (а после него — изредка — у Герцена) было достигнуто то соединение лапидарности и убийственной точности выражения, которое было свойственно французскому острословию XVIII века. Вяземский, воспитанный на этой традиции, только под старость
1 Русский архив, 1873, № 10, стб. 1994.
2 См. об этом: Гинзбург Л. Я. Вяземский.—В кн.: Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 41—50.
3 Старина и Новизна. СПб., 1909, кн. 13. С. 32.
п только в «Старой записной книжке») овладел ее достижениями полностью. Ьлестящий стиль «Старой записной книжки» синтезировал точность и афористичность французского «светского метафизического» языка с меткостью и остротой русской устной речи. Именно этой победой, а не брюзгливым резонерством Вяземский утер-таки нос молодому поколению.
Еще в 1826 году в сочувственной в целом рецензии на «Записки» известной французской писательницы графини Жанлис Вяземский упрекнул ее в том, что она «смотрит на все глазами старости, льстивыми, глядя на прошедшее, тусклыми, глядя на настоящее». Впрочем, и тогда он находил, что такое предубеждение — «в природе и порядке вещей». «Старики, безусловно любующиеся всякою новизною,— пояснял он, —доказывают, что они не умели быть молодыми и ничем не запаслись на черный день»1. Теперь, в старости, он не давал никаких оснований для сомнений, что некогда «умел быть молодым». В некрологе Глинке, самой ранней из мемуарных статей, включенных в эту книгу, он прочувствованно и даже любовно написал о непримиримом литературном противнике, найдя теплые слова и для Шишкова, о котором некогда писал эпиграммы столь язвительные, что Жуковский принужден был его одергивать. При этом собственные воинственные выпады против писателей антика-рамзинского лагеря он стремился задним чистом приглушить, представив своего рода невинной литературной шалостью.
Впрочем, С. Глинка и Шишков действительно были людьми, чьи искренность и бескорыстие не вызывали никаких сомнений. Но и те, кто в свое время внушал ему отвращение, траничащее с гадливостью, теперь казались как-то приятнее. «Каченовские, Сенковские, Булгарины далеко не были светилами критики, но все же была в них некоторая литературная основа. Они кое-чему обучились, кое-что прочитали»,— писал Вяземский в предсмертном «Автобиографическом введении». Он, кажется, специально извлекает из прошлого самые одиозные фигуры — Ф. Ростопчина, М. Магницкого, А. Аракчеева — и подолгу, со вкусом рассуждает о них, подробно говоря о недостатках, но подчеркивая и достоинства. Столь же академически-беспристрастного разбора удостаивает он такие язвы русской общественной жизни прошлых лет, как телесные наказания детей в школах, цензура печати и даже крепостное право. Думается, что, помимо старчески-льстивого взгляда на прошедшее и политического консерватизма, которым были теперь окрашены его воззрения, такая переоценка минувшего вызывалась и более глубинными причинами психологического и идеологического характера. Вяземский высказывал в своих воспоминаниях суждения очевидно непопулярные, которые, как он не мог не понимать, должны были вызвать негативную реакцию у и без того не расположенных к нему читателей. Он искал и сознательно выбирал сторону, обреченную на поражение. Как некогда, воображая себя перед трибуналом следствен-
1 Полн. собр. соч. Т. I. С. 208.
ной комиссии, он мечтал «выгрузить несколько истин», заведомо неспособных дойти до слуха судей, так и теперь он стоял перед трибуналом общественного мнения и умышленно добивался обвинительного приговора. Он чувствовал, что просить снисхождения у истории было бы ниже его достоинства1.
Решительный протест против настоящего, который во многом определил строй мемуарной прозы Вяземского, нашел свое прямое выражение в его стихах. В десятках эпиграмм и стихотворных памфлетов он обрушивается на все основные течения русской общественной мысли и едва ли не на всех их ведущих представителей от Герцена до Каткова. В современности он не приемлет никого и ничего, но, главное, ему чужд и антипатичен самый дух проходящей вокруг него литературной и политической борьбы, в которой столкновения партий и тенденций подчиняют себе личность, отменяя ее право на независимую позицию. В его инвективах либералам 60-х годрв звучат те же мотивы, по которым он некогда отказался примкнуть к декабристам: «Свобода — превра-щеньем роли — // На их условном языке // Есть отреченье личной воли // Чтоб быть винтом в паровике. // Быть попугаем однозвучным, // Который, весь оторопев. // Твердит с усердием докучным // Ему насвистанный напев».
Однако критика современной общественной жизни составляет не главный и не самый глубокий стой того чувства протеста, который одушевляет позднюю поэзию Вяземского. В ее основе твердое и выношенное «нет» самым фундаментальным законам бытия: жизни с ее неизбежными утратами, старению, физической дряхлости, ожиданию неизбежной смерти. Здесь поэт обретает, наконец, свою тему, на которой его, как определил еще Гоголь, «тяжелый. влачащийся по земле стих» обретает небывалую выразительность. Без таких шедевров позднего Вяземского, как «Мне нужен воздух вольный и широкий». «Все сверстники мои давно уж на покое», «Свой катехизис сплошь прилежно изуча», «Цветок», невозможно уже ни одно собрание вершинных достижений русской лирики.
Особо следует сказать об отношении Вяземского к религии. В 40 -50-е годы он искренне пытался найти душевное примирение с церковью, л слабый отголосок этих усилий звучит еще в одном из стихотворений написанного за два года до смерти цикла «Хандра с проблесками». И все же в последние годы жизни Вяземский решительно отходит от этих упований. В. С. Нечаева обнаружила в архиве писателя пометы, сделанные поэтом на полях своих прежних религиозных стихотворений. «Все это глупо и пошло», «Все это ложь поэтическая», «Ложь и это»,— выносил Вяземский «крупным старческим почерком»2 вердикты былым чаяниям. Однако это не было элементарным возвращением
1 «Других ныне судей не признаю и ни в грош не ставлю суда и приговоров их»,— писал он Я. К. Гроту, «младшему, но все же сверстнику своему по школе и по преданиям» (Старина и Новизна. Иг., 1915, кн. 19. С. 11).
2 Нечаева В. С. Вяземский — поэт.—В кн. Вяземский П. А. Избр. стихотворения. М. —Л., 1935. С. 42.
к традиционному вольтерьянству. Поздний Вяземский, пожалуй, впервые вносит в руссую поэзию отчетливые богоборческие настроения. Он предъявляет верховному промыслу суровый счет за коренные пороки мироустройства, не позволяя ему оправдаться тем, что за гробом человека ждет иное, лучшее существование. «Благодарю! С меня довольно! // Так надоел мне первый том, // Что мне зараней думать больно, // Что вновь засяду на втором»,— написал он в том же цикле «Хандра с проблесками». Едва ли Вяземский в эти годы был атеистом. Скорее можно сказать, что он не считал нужным мельтешить и оправдываться и перед этим судом.
Своих поздних стихов Вяземский почти не печатал. Его публикации после 1862 года, когда библиограф и историк литературы М. Н. Лонгинов выпустил его единственный прижизненный сборник «В дороге и дома», можно пересчитать по пальцам. Конечно, стихи, содержащие богоборческие мотивы, не могли быть опубликованы по цензурным соображениям, но и в целом Вяземский не испытывал интереса к печати. Если в отношении мемуарной прозы им отчасти двигало чувство долга перед ушедшими, то стихи он считал исключительно своим личным делом и не думал о возможных читателях.
Тем не менее, когда в 1874 году муж внучки Вяземского С. Д. Шереметев и историк Н. П. Барсуков подбили его приняться за издание собрания своих сочинений, старый писатель взялся за работу с энтузиазмом. Он пересматривал и правил старые статьи, дополнял их приписками, стремясь «придать немножко соли своим старым и давно залежавшимся запасамСпециально для издания он написал обширное «Автобиографическое введение», в начале которого объяснил и то, почему это собрание оказалось первым в его долгой жизни, и то, почему оно вообще выходит в свет:
«На вызов издать написанное мною и разбросанные по журналам отвечал я: «теперь поздно и рано». Поздно — потому, что железо остыло, а должно ковать железо, пока оно горячо, то есть пока участие читателей еще жйво и сочувственно. пока не развлеклось оно новыми именами, новыми предметами. Рано — потому, что не настала еще пора, когда старое так состарится, что может показаться новым и молодым. <...> Слова прошедшее, настоящее, будущее имеют значение условное и переносное. Всякое настоящее было когда-то будущим, и это будущее обратится в прошедшее. Иное старое может оставаться в стороне и в забвении, но тут нет еще доказательства, что оно устарело, оно только вышло из употребления. Это так, но запрос на него может возродиться. ...Следовательно, и моя речь впереди: стоит только дождаться удобного часа, а он пробьет уже без меня, но пробьет».
До выхода первого тома Полного собрания сочинений Вяземский не дожил нескольких недель. Он умер 10 ноября 1878 года в Баден-Бадсне.
1 Русская старина, 1892, N° 12. С. 680 (письмо к А. В. Никитенко от 4/16 июня 1876 г.).
Пробил ли час, о котором писал Вяземский? Сегодня, когда имя Пушкина стало едва ли не предметом поклонения, когда миллионы читателей с нетерпением ждут выхода в свет «Истории государства Российского» Н. Карамзина, когда сама культура первой четверти XIX века воспринимается как своего рода эталон рыцарства и красоты, на этот вопрос, кажется, можно ответить утвердительно. Действительно, как ученик, друг и соратник, как участник литературных и общественных баталий 1810-х-1830-х годов, Вяземский уже не может быть вытеснен из читательского сознания. В то же время, думается, наследие последних десятилетий его жизни еще не оценено по достоинству. Нам еще предстоит по-настоящему вчитаться в траг ические страницы его поздних произведений, чтобы за стариковски-брюзгливыми интонациями одинокого и разошедшегося со своим временем человека услышать голос большого писателя, наделенного сильным и трезвым умом, беспощадной требовательностью к себе, неслабеющим мужеством в своих отношениях с жизнью и смертью.
Если интересуемая информация не найдена, её можно ЗАКАЗАТЬ |
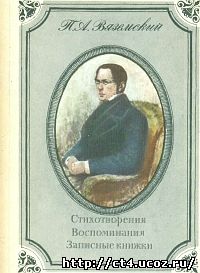
 Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ
Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ  Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

