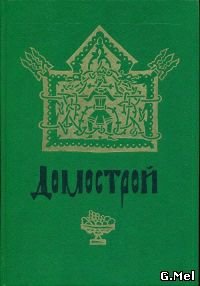| Главная » Статьи » Библиотека C4 » 1.Древнерусская литература |
Домострой/ Сост., вступ. ст., пер. и коммент. Д66 В. В. Колесова; Подгот. текстов В. В. Рождественской, В. В. Колесова и М. В. Пименовой; Худож. А. Г. Тюрин.—М.: Сов. Россия, 1990.—304 е.: ил. Аннотация: «Домострой» — один из известнейших древнерусских памятников, возникший под воздействием средневековой литературы разных жанров и различного происхождения, к середине XVI века получил законченную форму. В объединительных тенденциях Русского государства того времени памятник сыграл важную роль как выражение идеала духовной, социальной и семейной жизни в нравственном их аспекте («духовного, мирского и домовного строения»). «Домострой» представляет красочные картины средневекового быта во всех тонкостях и проявлениях общественного и семейного бытия. Добавления к основному тексту познакомят читателей с ритуальным действом свадьбы, праздничного пира и бытового общения. В приложении помещены также «Травники», извлечения из «Лечебника» и «Назирателя», трактующих медицинские и сельскохозяйственные проблемы эпохи средневековья. Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать СОДЕРЖАНИЕ В. Колесов. Домострой без домостроевщины Домострой Древнерусский текст /файл PDF (17Mb)/ссылка работает до 11.12.2013г. Приложения Назиратель Древнерусский текст Перевод Травник Древнерусский текст Лечебник Древнерусский текст Гадальные книги Древнерусский текст Комментарий ***
Дом вести — не лапти плести Эта народная мудрость сжато выражает отношение русского человека к Дому — одновременно и хозяйству, и помещению, и его насельникам — в соответствии с многовековой традицией, которая не укладывается в схематические представления современных нам систем, идей или концепций. Дом вести — государю, то есть одновременно и гражданину (исконное значение слова государь), и хозяину, и господину. Взаимообратимость понятий о «государстве» типична для средневекового представления о человеке: это понятие начинает и завершает весь круг земных обязанностей человека — он и господин и раб одновременно. Все зависит от отношения его к другим людям в общей цепи социальных признаков. Критики нового времени не понимают этой особенности средневекового менталитета и традиции. Аналитически жестко они членят этот мир на хозяев и слуг, господ и рабов, приписывая средневековому обществу свойственные их собственному времени ценности и оценки. В Домострое они осуждают домостроевщину... Действительно, с Домостроем в истории русской культуры связаны многие легенды и мифы — верный признак значительности и значимости этого памятника национального самосознания, как бы вдруг возникшего на излете средневековья. Подобные легенды отражают историю самого текста, а мифы — его восприятие, но — восприятие нашего времени. Если «понять — значит простить», то понять эпоху, в которую создан памятник литературы, прежде всего и значит правильно оценить значение его для того времени, когда он возник. Но тогда и окажется, что прощать-то некого, да и не за что. Все хорошо в свое время... время оценит... но время и сохранит... Время сохранило нам Домострой. И как бы ни относились современники к этому произведению, им не следует забывать, что во многом, если не во всем, их осуждение Домостроя восходит к оценкам давним и небеспристрастным. Самые ранние из них — высказывания иноземцев, посетивших Московию в XV—XVII веках; они описывали Россию и русских весьма критически, приписывая московитам общечеловеческие пороки и слабости, свойственные и им самим. Охотно заимствуя друг у друга различные россказни, они вводили в подсознание соотечественников недоверие и неприязнь к русским. Поскольку, насильственно лишенные собственной истории и философии, в XX веке мы вынуждены были изучать науку в ее усредненном западноевропейском варианте, случилось так, что и на собственное свое прошлое мы смотрим сегодня глазами европейских философов и публицистов. Мы осуждаем себя их словами, не вдумываясь в смысл речений. Так и пошли по свету хлесткие рассказы о русском пьянстве, разврате и мздоимстве как черте национальной; особенно много легенд, связанных с женщинами: только тогда она ценит любовь, если муж жестоко ее избивает. Доходило до невероятных искажений фактов, событий и имен. Чего стоит хотя бы такой: Иван Васильевич Грозный получил особое имя Васильевич исключительно за свою жестокость... Подобные сказки дожили до современных зарубежных энциклопедий; вот из таких далеких времен идет осуждение Домостроя. Тогда же, в XVII веке отечественные публицисты (в их числе Юрий Крижанич, Иван Посошков и другие) с достоинством отвечали на вымыслы, показывая, между прочим, и общую приверженность всех европейцев своего времени к тем или иным порокам. Однако поверхностность и пристрастность наблюдателей со стороны горько отзывались еще и в прошлом веке. Напрасно выдающиеся историки (например, В. О. Ключевский) критически показывали несправедливость многих измышлений по поводу средневековой Руси, болезненно воспринимали клевету на русский народ славянофилы, по-своему идеализировавшие русскую старину: «И сколько во всем этом вздора, сколько невежества! Какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба! Поневоле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь: на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? Вспомнишь, как того-то мы спасли от неизбежной гибели; как другого, порабощенного, мы подняли, укрепили; как третьего, победив, мы спасли от мщенья и т. д. Досада нам позволительна; но досада скоро сменяется другим, лучшим чувством — грустью истинной и сердечной. В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданьям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека... Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этою самостоятельной силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов, отказать нам в этом праве они не могут, но и смириться с тем — тоже». Не стоит обманываться, в той или иной форме домостроевщина безусловно живет еще в нас, особенно там, где мы ее не замечаем. Вот хотя бы многочисленные инструкции, циркуляры, указы, дотошно регламентирующие наш трудовой быт, социальный и нравственный порядок («чин»),— это тот же стиль Домостроя. Но если кому-то будет угодно подобную форму повязанности Человека писаными нормами сверху связывать с домостроевщиной — это уже неправда, сегодня такие вериги называют иначе. Типологическое сходство, общность культурных переживаний еще не дают права говорить о родимых пятнах домостроевщины в нашей жизни. Содержание книги не несет ответственности за жанр ее. В противоположности закона, который разрешает все, что не запрещено, и нормы, которая нудно перечисляет именно то, что разрешено, позволено, обязательно для исполнения, и скрывается «жанр» Домостроя: для русского человека неприятие всех форм нормализации (вопреки естественному закону) как раз и было всегда определяющей чертой поведения, рождая его своевольство, «всё назло» и пр. Все народные движения эпохи средневековья начинались с того момента, когда людям надоедало следовать жестким нормам, установленным сверху, повязавшим их силу и волю. Если основным признаком домостроевщины считать суровый регламент — верно, такая домостроевщина неприемлема и сейчас. Домостроевщина как сумма признаков определенной культуры была открыта не с помощью критики со стороны да и не в самом Домострое; она определилась в фактах русской жизни XIX века, уже совершенно изменившейся и мало похожей на быт XVI века. В народнической публицистике этот термин стал образом-символом, с помощью которого в эзоповском языке подцензурной печати боролись с мерзостями современной социальной жизни. Публицисту-народнику Н. В. Шелгунову принадлежит развернутое определение черт домостроевщины и анализ ее качеств с точки зрения революционной борьбы прошлого века. По его мнению, Сильвестр, «собравший Домострой», был для нас, русских, тем же Конфуцием, который тоже «не сочинил ничего своего, а только собрал плоды народной мудрости и практических правил и подвел им итог... Мы очень негодовали на этот мешающий нам глухой и тупой мир безграничного самодурства, вовсе не подозревая, что повторяем на себе мораль басни о Климыче, который тоже кивал на Петра. Все мы были Климычами, только в иной, не купеческой форме. Домострой царил у нас повсюду, во всех понятиях, во всех слоях общества, начиная с деревенской избы и кончая помещичьим домом. Везде ходил домостроевский «жезл», везде в том или другом виде сокрушались ребра или вежливенько стегали жен и детей плеткой (советы Домостроя),— везде, с первых же шагов жизни, человек чувствовал, как его во всем нагнетали и принуждали, как его личному чувству не давали ни простора, ни выхода и как какое-нибудь масло выжимали в старые претившие формы. Это сознание своего личного несчастия нас, наконец, и пробудило»1. Классическая русская литература прошлого века также подхватила этот образ. Тургенев, Лев Толстой, Короленко, Горький, многие их современники выразили свое представление о Домострое как о плетке в руках отца, как «дикое понятие о женщине и о браке», как жестокость хозяина — «старого завета папаши»,— «все так пахло кругом базаром, трактиром, домостроем, лавкой!» (Златовратский. Город рабочих). В наше время Слово домострой стало уже простым ярлыком для обозначения общечеловеческих, временами просто биологических каких-то признаков современного человека. Это могло бы свидетельствовать о значительности Домостроя как литературного памятника, сумевшего отразить общечеловеческие и «вечные» проблемы бытия, если бы... если бы все подобные изречения и характеристики основывались на знании самого Домостроя, а не на литературной традиции его истолкования, на публицистическом предании, на мифе, которые творит общественное сознание. Похоже, что, за полтора столетия пройдя круг развития смысла и наполняясь свойственным каждому времени содержанием, понятие о Домострое уже довольно далеко отошло от самого памятника. То, что в прошлом веке воспринималось как антинациональное вообще, как тормоз на пути развития русского общества, по кругу размышлений в полном отрыве от текста памятника возвращается к идеям славянофилов, видит в модели Домостроя некие национальные корни русского народа — и оценивает их, разумеется, с обратным знаком. Такова судьба символов — они многозначны. При желании их можно истолковать наилучшим для себя образом. Такова и ценность публицистики — она преходяща, но оставляет обманчивый след. В подобных условиях важно вернуться к самому памятнику, вчитаться в реальный текст, постоянно отдавая себе отчет в том. что Домострой — памятник культуры своего времени, Неопределенность и некая многозначность содержания Домостроя объясняется происхождением памятника, типичного для средневековой литературы памятника нравоучительной литературы. Нравоучительной — а это прежде всего значит, что повествовательный элемент в нем подчинен назидательным целям поучения н прорывается в текст только вместе с народной речью, да и то лишь в виде исключения. Это значит также, что каждое положение аргументируется здесь ссылками на освященные традицией образцовые тексты, главным образом — тексты Священного Писания, но не только его. Домострой отличается от других средневековых памятников как раз тем, что в доказательство истинности того или иного положения приводятся также изречения народной мудрости, еще не отлившиеся в тысячеустом употреблении в законченность современной пословицы. Эго значит, наконец, что прагматический характеризложения нацелен в Домострое прежде всего на подачу информации, обычно посредством тех же истин Писания, под оценивающим углом которых рассматривались все вообще проявления жизни, масштабом которого они измерялись и в котором видели образцы. В Домострое нет намеренного сочинительства, как нет и сознательного использования поэтических или ораторских приемов, создающих впечатление образности, нет тех художественных средств современной нам литературы, которые в XV веке успешно воплощались еще в средствах самого языка—образного, синкретически многозначного, гибкого в изложении мысли и настолько яркого, что на современный язык не всегда удастся передать многоцветье его образов. Непосредственность чувства, искренность и упорное стремление к утверждению нравственного идеала одухотворяет Домострой, а за усредненными книжными штампами слышен голос средневекового автора. Литературная традиция, породившая Домострой, идет от древнейших переводов на славянский язык христианских текстов нравственного характера, особенно почитавшихся в Новгороде. Именно здесь долго сохранялись к условия, способствовавшие тем отношениям церкви с властью, а их обеих—с подданным, которые отражены в Домострое: «справедливая^, праведная вера, скрепляющая прерогативы власти своим авторитетом, «очищающая* ее. Духовность как естественная потребность личности, живущей в жестоком мире средневековья, «снятая* с этой древненовгород-ской традиции, становилась питательной средой разного рода еретических движении XIV—XV веков, известных по событиям в Новгороде и в Пскове, Это обстоятельство не нужно оставлять без внимания: Домострой в момент своего сложения является порождением самой демократической и социально свободной по тем временам территории Руси. Перед нами не просто «экономия* (таково точное значение кальки — слова домострой)» она проникнута нравственными характеристиками в отношениях между людьми, которые составляют население Дома — опять-таки одновременно и государства, и города, и имения, и семьи. Христианская мораль в отточенных определениях отцов церкви накладывается на бытовые подробности жизни — и тем самым как бы ограничивает возможности человека, подчиняя их общепринятым нормам этой жизни. В основе текста Домостроя лежит несколько традиционных для средневековой литературы жанров. Это объясняет и сложность состава, и частую противоречивость нравственных рекомендаций книги. Во-первых, это "поучения от отца к сыну", известные на Руси с середины XI века. Поначалу авторы таких поучений —»люди царственного ранга (например, средневековой (христианской) эпохи, доведя ее до системы, развив до предела, за которым скрывался уже совершенно иной взгляд на поведение человека в обществе. В-четвертых, первоначальный текст Домостроя содержал в себе многие картинки с натуры — городские рассказы простонародного типа, характерные для демократической среды больших городов. Публикуемая редакция содержит некоторые из них, однако, как можно предполагать, рассказов этих было больше, но их постепенно устраняли из текста, который все больше приближался к отвлеченным поучениям традиционного типа (образцом которых является публикуемый здесь Малый Домострой — заключение ко второй редакции памятника). Именно в подобных рассказах находим множество простонародных выражений, примет быта и точных характеристик, вводящих нас в реальную жизнь городского дома. В-пятых, большое влияние на окончательный текст Домостроя оказали современные ему западноевропейские «домострой», восходящие к древнейшим текстам такого типа. В их числе называют древнегреческие сочинения Ксенофонта (445—355 гг. до н. э.) «О хозяйстве», а также «Политику» Аристотеля — писателя, авторитет которого в средневековой литературе был особенно высок. Как раз в 1479 году были переведены на славянский язык «Василия царя греческого гла-визны наказательны к сыну его царю Аьву», были и другие сочинения того же жанра и содержания. Через чешские и польские обработки и переложения (Фомы Щитного, Смиля Фляшки, Николая Рея и др.) уже были известны итальянские, французские, немецкие (а также изданные на латинском языке) «домострой» средневековой Европы: Егидия Колонна, «заточника из Бари»^Франческо да Барберини, Годдфруа де Аотур-Аандри, Аеона Альберти, Бальтазара Кастильоне, Рейнольда Аорихиуса и др.2 3 Домострой — сборник текучего состава, многие его списки отличаются друг от друга, составляя несколько редакций и типов. Вещь — обычная для средневековых памятников. Первая редакция Домостроя составлена в Новгороде в конце XV — начале XVI века, вторая была значительно переработана выходцем из Новгорода, впоследствии влиятельным советником молодого Ивана IV, благовещенским протопопом Сильвестром . Три основные части составляют Домострой обеих редакций. Уже в Предисловии к первой редакции, написанном, может быть, позже создания второй редакции, говорится, что эти части последовательно излагают правила общежития в отношении «духовного строения» (религиозные наставления, главы 1—15), «мирского строения» (о семейных отношениях, главы 16—29) и «домовного строения» (хозяйственные рекомендации, главы 30—63 по II редакции). «Этот кодекс состоял из трех наук, или строений»,— заметил В. О. Ключевский, переводя древнерусское слово «строй» на современное понятие «наука»; с еще большим правом он мог сказать о «чине», поскольку и слово чинъ вошло в последующие главы Домостроя, ср. «Чинъ свадебный» XVII века. Не знание, связываемое обычно с информацией, интересует автора да и читателя Домостроя, а порядок ведения дел, степенность, то есть последовательность в отношении к основному и главному в рамках домашнего жития. Не знать, но ведать надлежит Дом. Однако заданная трехчастная цельность нарушена в обеих редакциях. Дошедшие до нас списки не отражают замыслов неизвестного автора. Первая редакция постоянно восполнялась своего рода «приложениями», раскрывавшими отдельные мысли книги частными комментариями (в принципе подобных распространений могло быть много, например, за счет травников, лечебников, «указа» о том, как «огород вести», и пр.), а в сильвестровской редакции таким дополнением стала 64-я глава, которая представляет авторский конспект всего Домостроя, сделанный Сильвестром и адресованный его сыну. Вместе с тем это как бы и житейское, основанное на личном опыте Сильвестра, обоснование Домостроя: Сильвестр показывает сыну, насколько эффективны и справедливы рекомендации книги, следуя которым можно добиться успеха в современном им обществе. Последняя глава — конечный результат тех действий, которые рекомендованы Домосфоем, его итог. Эту же главу можно рассматривать и как самостоятельное произведение (часто она и переписывалась отдельно). Такова особенность средневековой литературы: состав текста может изменяться, обычно путем добавлений, как это и свойственно первой редакции Домостроя, публикуемой в этой книге. Однако вторая редакция, созданная Сильвестром, наоборот, сокращена по сравнению с первоначальной, сознательно дана как восполнение других произведений, составленных при участии того же Сильвестра. Прежде всего это Стоглав — сборник постановлений церковного Собора 1551 года, состоящий из ста глав (как и Судебник 1550 года). Регламентация быта достигает в Стоглаве еще большей степени, чем в Домострое. Именно Стоглав запрещает брить бороды, есть колбасу или носить одежду, «неподобающую чину». Чего нет в Домострое из Из-марагда, то так или иначе вошло в Судебник или Стоглав, и если уж говорить о приметах домостроевщины в текстах XVI века, их несомненно больше в подобных «главах», чем в Домострое. Все они, как и образцы праведного жития, представленные в обширных Четьих-Минеях, в Степенной книге и т. д., возникали в момент, когда средневековые традиции стали осознаваться уже самими носителями этой старой культуры. Изменился стиль и характер жизни, внешний образ существования, идеалы и цели — и возникла необходимость в словесной форме подвести своего рода итог прошлому, оценить его — или закрепить как норму. Оказывается, и Домострой — всего лишь фрагмент «культурного текста» своей эпохи. Поэтому он изменялся постоянно. Возникла и третья его редакция, в ней совмещались особенности первых двух. Но если Стоглав или Судебник были законами официальными, Домострой навсегда остался свободным от жесткой нормализации. Во второй половине XVII века появились даже стихотворные, виршевые его переложения. Это своего рода упадок жанра, обломки старой конструкции, общая схема, призванная напомнить о важной когда-то народной традиции. В Домострое отражена принципиально иная культура, чем современная нам. Это прежде всего культура афоризма, поскольку единственной формой возобновления и сохранения информации долгое время оставалась устная речь, а не письменный текст. Размытость композиции Домостроя в следовании глав свидетельствует о том, что и сам текст складывался из устных «речей» постепенно, последовательно сгущаясь в главки, разделы и части большой книги. Афоризм сопровождает все ее части, такова удобная для запоминания мысли форма, которая обладает и известной нерасчлененностью смысла, многозначностью выражения, что прежде всего проявляется в языке,— но и в содержании также (проблемы экономики, политики и этики не дифференцированы), и в самом ритуале поведения человека в обществе он совмещает в себе особенности церковного и светского (если не сказать — языческого) отправления дел. Авторитет прошлого — единственное, что соединяет все источники Домостроя в общей его этикетности. В Домострое много таких особенностей повествования, которые отражают уровень мышления XVI века. Чего стоят одни только списки, перечисления вещей и предметов, своей сочной конкретностью заставляющие вспомнить «Гаргантюа и Пантагрюэля». Однако Ф. Рабле уже издевался над подобной формой конкретизированного средневекового мышления, тогда как в Домострое это делается вполне серьезно и тем самым напоминает деловую прозу новгородских купцов — с теми же оборотами речи, с той же интонацией и исключительной дотошностью в назывании предметов вещного мира. Здесь нет действия, поскольку самый мир рисуется как замкнутое пространство «дома». Отсюда так беден памятник глагольными формами, но зато понятие, скрытое за* именем (существительным), представлено здесь как ни в одном другом памятнике того же времени. Каждую главу Домостроя можно было бы пополнить изречениями вроде «денежка счет любит», «береги честь смолоду» и пр., но ни разу такие сентенции не посещают\авторов книги, серьезность тона — признак XVI века, еще не затронутого зубоскальством века семнадцатого. Поразительно то внимание, которое Домострой уделяет питью и пище — здесь указано более 135 кушаний разного рода; это даже не еда, а вселенское обжорство. Не следует понимать так, будто и на самом деле предки наши были обжорами. Напротив, рачительное хозяйственное отношение к каждому кусочку, к крошечке, к лоскутку показывает, насколько ценились все эти блага: еда, питье, одежда. Все нужно сохранить, сберечь, приготовить для нового пользования. Во времена, когда каждый третий год был недород, а каждые десять лет уносили массу людей в различных моровых поветриях, мечта о хлебе насущном — и есть мечта о хорошей, правильной жизни. Это мечта, но это же и ответ на многие проблемы века. В частности, и культ обжорства как проявление смеховой культуры средневековых празднеств — тоже не национально русская черта. Все средневековые общества придавали этому особое значение; когда же требовалось противопоставить жизнерадостную народную традицию аскетическим устремлениям церкви, именно обжорство как символ сытой жизни и разрасталось до размеров Гаргантюа. Только в литературно обработанном тексте французского писателя внимание обращено на результат: блюдо уже готово, и его нужно съесть; автор же Домостроя тщательно расписывает «меню» в зависимости от церковных праздников и служб, чтобы и в этом отношении не ударить лицом в грязь перед определяющей единство общества последовательностью ритуала. Деловитые перечни множества частных действий и мелких предметов напоминают деловые грамоты средневековья: такая же дотошность, основанная на дробном восприятии мира вещей и явлений, старательное желание не забыть, не упустить чего-то, что впоследствии может оказаться полезным и важным. Оттого и возникает представление о «влиянии деловых текстов» на стиль Домостроя. Это не совсем точно в смысле непосредственного влияния жанра или содержания древнерусских грамот. Здесь просто отражается средневековый тип мышления с устремленностью его к конкретной вещественности материального мира — в противоположность к отвлеченным идеям мира идеального, небесного. Конкретное и абстрактное разведены в сознании средневекового человека, такое противопоставление устойчиво и определяет построение всего Домостроя. Без отвлеченностей первой части текст был бы неполон, поскольку бытовые подробности жизни оказались бы не ^освященными нравственными установками божественных истин. Вещный мир оживает, когда все «благословенно», и благословенная денежка по милости божией становится символом праведной жизни. Экономика одухотворена этикой, но только в термине-слове осознается тонкое различие между всеми ипостасями жизни: человек проживает житие по христианскому обычаю, но основой жития являетсяживотъ — именно это и есть жизнь во всей полноте ее проявлений; такою она предстает со страниц книги. «Разведению» этического и экономического в сознании соответствует в языке и другая особенность средневекового мышления. Почти отсутствуют общеродовые обозначения в хозяйственных частях книги. Нет посуды вообще — есть мельчайшие оттенки в конкретном воплощении посуды, каждая конкретная посудина, чем-то да и отличающаяся от всей остальной посуды; нет и речи о приготовлении пищи — во многих оттенках проявляются формы и способы приготовления пищи: тут и «стряпати», и «приспехи делати», и пр. Таков стиль жизни, который и определяет характер мышления. Скорей всего и деловой стиль Домостроя объясняется вовсе не влиянием со стороны грамот XV—XVI веков, он отражает коренные свойства бытия и сознания русского человека этого века. Тем самым еще раз подчеркивается реалистичность жанра в отношении к культуре своего времени. Строго говоря, в обычном смысле Домострой — не литературное произведение. Это своего рода сценарный план проведения нескольких, жизненно важных семейных и общественных действ. Приложенные к некоторым спискам перечни праздничных блюд или чина свадебного подтверждают, что именно так и воспринимался этот текст. В определенных местах говорилось о людях «имярек» — и нужно было заполнить пропуск собственным именем, пространство текста можно было восполнять и дополнять всем, что, в общем, считалось тогда и понятным, и известным. Так и поступали безымянные переписчики книги. Домострой не доказывает фактами и рассуждениями, он пламенно убеждает — проповедью. Его адресатом попеременно является то господин, то служка, то «свят человек», то простец — некий среднего достоинства «государь», постоянно меняющий лик свой то на конкретное лицо, то на условную личину — не личность в современном смысле слова; такова типичная для средневековья фигура человека, воплощающая идеального субъекта права и веры. Он многолик еще и потому, что источники Домостроя — разного времени и происхождения, один* и тот же социальный статус свободно именуется терминами разного звучания: то служка, то раб, то холоп, сам государь то и дело зоветсягосподарем (хозяином) и т. д. Доказывать что-то не нужно тому, кто и без этого верит и «знает», следует лишь напомнить ему его круг обязанностей в иерархии быта и бытия. Когда говорят о домостроевщине как о сути средневековой идеологии, прежде всего вспоминают принижение женщины в домашнем быту, жестокости воспитания и крепостническое самодурство (термин прошлого века), личную несвободу человека. Все это, безусловно, отражено в Домострое. И дело даже не в том, что то же отражено во всех средневековых «домостроях» и в точности, иногда почти буквально, повторяет церковные тексты, обязательные для книжника той поры. Дело в том, что представленный в книге быт соответствует своему времени, а время было и жестоким — и героическим. В своем личном «государстве» домохозяин, как носитель духовного чина, то есть порядка, просто обязан обеспечить дом экономически и устроить его обитателей нравственно. Право его обеспечено долгом: воспитание понимается просто не только буквально как питание, но и как общее руководство всем подвластным. При этом основным инструментом и решений и действия государя признается личная его совесть. По меткому выражению одного из историков, Домострой и призван был «выбивать автоматическую совесть» в тех, кто забывает свой общественный долг. Все осудительные афоризмы о «злых женах» также восходят к переводным текстам и потому отражают «византийскую мораль». По сравнению с более ранними сочинениями Домострой значительно мягче в своих рекомендациях в отношении к женщине, поскольку это определялось уже и реальным положением женщины в обществе. «Вот идеал семейной жизни, как он был создан древним русским обществом. Женщина поставлена здесь на видном- месте, ее деятельность обширна... Необходимого для восстановления нравственных сил развлечения, перемены занятия, перемены предмета для разговора нет и быть Не должно по общественным условиям... Повторяю, что мы не имеем никакого права упрекать Домострой в жестокости к женщине: у него нет приличных невинных удовольствий, которые бы он мог предложить ей, и потому он принужден отказать ей во всяком удовольствии, принужден требовать, чтобы она не имела минуты свободной, которая может породить в ней желание удовольствия неприличного или, что еще хуже, желание развлекать себя хмелем. Сколько женщин по доброй воле могло приближаться к идеалу, начертанному Домостроем, скольких надобно было заставлять приближаться к нему силою, и скольких нельзя было заставить приблизиться к нему никакою силою, сколько женщин предавалось названным неприличным удовольствиям? На этот вопрос мы отвечать не решимся»1. Идея женского равноправия рождалась в границах семьи и основывалась на разделении труда между супругами. Чтобы «вооружить женщину гражданской равноправностью», необходимо было развить для начала семейное согласие между супругами,во всяком случае, после языческого многоженства (точнее — двоеженства) и взамен свойственных прежнему обществу похищений (умыканий) невест исторически это было явление положительное. Роль семьи в постепенном развитии женского социального равенства указывают и историки западноевропейского средневековья (например, Ф. Гизо). Средневековое общество как социально целостное образование во многом еще не общество в современном понимании, ародство, то есть семья в широком смысле слова. Роль женщины тут исключительно важна, поскольку для большинства — для младших членов коллектива она — мать. Русская история показывает твердый характер русской «матерой вдовы» — от княгини Ольги до былинной Амелфы Тимофеевны; под их рукой ходили такие мужчины, как князь Святослав или Васька Буслаев. <Это навязчивая идея церковника: взгляд на женщину как на потенциальную пособницу дьявола, соответствующие мотивы сохраняются и в тексте книги. Тем не менее в Домострое женщина — хозяйка дома в иерархии семейных отношений занимает свое особое место. Права и обязанности хозяина и хозяйки находятся как бы в дополнительном распределении, почти не пересекаясь, а это определяет и ранг хозяйки в частной жизни дома. Только совместно муж и жена составляют «дом». Без жены мужчина не является социально полноправным членом общества, он остается при другом (отцовском) «доме». Рассматривая по разным источникам взаимные отношения государя и государыни дома, И. Е. Забелин решался распределить их функции по известной правовой формуле средневековья: «слово и дело». Последнее слово всегда остается за государем, но делом в доме занимается государыня («делодержец дому»), так что многим из женщин были присущи «крепкое мужество и непреложный разум — качества безусловно мужские» . Другое дело — идеальные качества, которых требовал от женщины Домострой. В отличие от мужчины (он должен быть строг, справедлив и честен), от женщины требовались чистота и послушание. Такая специализация нравственного чувства также понятна в эпоху патриархального общества; в полной мере действует правило, упоминаемое еще Владимиром Мономахом: «Любите жену свою, но не дайте ей над собою власти». Таков идеал физической силы, которая определяла сильнейшего в социальном общении. ______________________________ 1 Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц.— М., 1869.— С. 48. 2 Там же.—С. 70, 76, 95, 123. Что же касается воспитания детей — с помощью довольно суровых мер, то и в этом Домострой не оригинален: вся средневековая педагогика построена была на телесных наказаниях. Своеволие и дерзостное упрямство как проявления «нравственной свободы человека» можно было подавить только горячей «нравственной уздою»'. До конца XVII века жизнь несовершеннолетнего не признавалась равнозначной жизни взрослого; своего ребенка можно было и убить, особенно если он посягнул на жизнь или достоинство родителей; внебрачные дети вообще не находили никакой социальной защиты. Если учесть, что самые жесткие рекомендации Домостроя относительно воспитания опять-таки вынесены «из святых отец», византийская подкладка в реализации воспитательных методов станет ясной, а на этом фоне некоторые гуманные черты самого Домостроя проявятся ярче. Рукой домовладыки, отца, взявшего розгу, двигала не личная озлобленность карающего праведника, но идея неотвратимости наказания за проступок, порок или за самое страшное преступление — лень и безделие. Воля старшего определялась правом вооружиться розгой («жезлом»), а семейное начало воспитывало (в исконном смысле слова — питало) все последующие этапы в социальном бытии и общественном развитии человека. Другое дело, что в суровый век меры применялись не совсем гуманные, и оправдывающий их афоризм звучит непривычно: «Да как это никого не драть? Да ведь эдак, пожалуй, мы и Бога-то позабудем!» — выражаясь словами М. Е. Салтыкова-Щедрина. | |
| Просмотров: 6848 | Теги: | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан