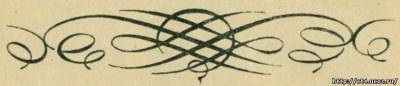
«НОВЫЙ БАРИН»
Новая метла чище метёт.
Прежде, то есть до начала нашего оскудения, город, деревня были совсем в других отношениях, чем теперь. Прежде вся сила была в деревне, несмотря даже на то, что начальство и подъячие жили в городе. Начальство, то есть исправников и подъячих для земского и уездного судов, мы выбирали сами, и так как, по правде говоря, хороший человек на эти должности не шел, то набирали мы себе это начальство из всякой что ни на есть горечи: из самых захудалых дворянчиков, даже не помещиков, а так просто дворянчиков; из детей умерших или под суд попавших подъячих, служивших прежде в нашем уезде, из детей городских попов, почему-нибудь не принявших ангельского чина, и проч., и проч. Понятно, что вся эта голь была голодна, прожорлива и ужасно плодуща. Уже по одному этому она была у нас в полной зависимости и покорности. Кто даст ей муки, крупы, овса, масла, гусей, кто. хотя и заочно, воспримет ог купели у ней ребенка? Кто, если она проворуется и попадет, наконец, под суд. заступится за нее перед губернатором? Не кто иной, как помещик, представитель деревни.
Ясно, что со всей этой братией нечего было церемониться, и мы действительно не церемонились. Надо почему-нибудь ехать в суд, то есть в город, а не хочется, лень, — ну и пошлешь, бывало, за заседателем или за каким-нибудь непременным членом. И дело сделано: и я спокоен и он рад, потому ему за груды дали и гусятины, и мучки, и овса для той кривой кобылы, на которой он ездит в городе н которая подарена на зубок его детенышу при крещении. А затем, хотя было и другое начальство, но до нас оно не касалось, если не считать почмейстера, который от нас же бывал сыт. Городничий, квартальные, казначей.
стряпчий, протопоп, штатный смотритель уездного училища и еще каких-то два—три чина—эти до нас совершенно уж ничего не имели и потому были на попечении не у нас, а у купцов и «граждан», а мы если и давали им, то больше по привычке давать всякому мундирному человеку. Таким образом, надобности ездить в город по делам у нас прежде почти что не было. Каждую неделю ездил в город один только предводитель, считающийся, как известно, председателем дворянской опеки. Да и он ездил аккуратно тогда только, если у него была заведена там метресса, потому что за протоколистом опеки можно было и послать, а подписать бумаги нетрудно и дома. В этом отношении было отлично жить: и покойно, и почетно. На именины, на рождения, а также в большие праздники и без того все судьи и вообще начальство непременно приезжали из города. Иные осмеливались (разумеется, с позволения) привозить с собой своих жен и детей. И, как живые, они у меня и теперь перед глазами — жалкие, худые... Совсем неправда, что подъячие, то есть вообще стряпчие, заседатели, непременные члены и проч., были жирные и толстые. Напротив, все они были бледные, сутуловатые, со впалой грудью, с узкими плечами. Только одни животы у всех были огромные, оттого и казались телом толсты...
Гораздо крепче была другая наша связь с городом: бакалейные лавки и трактиры.
И теперь одурь возьмет, если проживешь в деревне безвыходно два — три месяца, а тогда уж и говорить нечего, какая была скука. Теперь и газеты завелись, и железные дороги, и все такое, а пятнадцать — двадцать лет назад все это было еще в самом зародыше и существовало где-то там, а не у нас.
Возьмет тебя, бывало, скука, и едешь в город. Там и икра, осетрина свежая, и семга, и на бильярде можно поиграть, и с арфистками попутаться. И потом непременно какого-нибудь ремонтера встретишь. А с кем же лучше можно отвести душу отставному штабс-ротмистру, как не с служащим шгабс-ротмистром? Это, по-видимому, пустое обстоятельство не следует упускать из виду. Никогда не следует забывать, что не только деды, но и отцы и дяди наши все сплошь почти были армейские и гвардейские отставные поручики и штабс-ротмистры. Привыкли они к бродячей походной жизни и, хотя с летами и оседали в деревне и подчинялись нашим маменькам и тетенькам, но и город, и привычки брали-таки свое. Тайком или открыто, под каким-нибудь предлогом, они удирали в город и отводили там свою душеньку.
Но и кроме этих незаконных, так сказать, причин, город обязательно посещался во время ярмарок, то есть раз или два в году. В это время всегда почти приезжали с женами и детьми. Тут закупалась провизия, то есть чай, сахар, кофе, лавровый лист, зеленый горошек, и проч., и проч. Гут же покупались и обновки для всей семьи.
Затем все разъезжались по своим Ивановкам и Осиповкам, увозя с собой обновки, провизию и приятные воспоминания до следующего раза.
1 аким образом, городом мы, так сказать, лакомились, ездили туда как на пикник какой; увлекались, легкомыслен-ничали там одни или всесемейно и, возвращаясь домой, возвращались к делу. Совсем иначе относился к нам город. Он смотрел на нас серьезно, с почтением, даже подличал перед нами. Мы были ему необходимы, потому что он нами жил. Он покупал у нас пшеницу, рожь, овес, лошадей, птиц, масло и проч.; торговал всем этим, наживался, и в то время, когда мы лакомились икрой, семгой, заказывали и ели селянки и играли на бильярде, он, город, получал и ^ копил барыши, низко раскланиваясь с нами.
Тогдашний представитель города, купец, так же мало походил на теперешнего купца, как теперешний ощипанный | помещик походит на прежнего помещика. Товар свой, хлеб 1 и проч., мы к купцу в город для запродажи не возили тогда, как теперь. «Купец» сам к нам приезжал, и приезжал не так, как теперь, а скромно, на беговых дрожках или в тележке.
Подъедет, бывало, не прямо к крыльцу барского дома, а к флигелю, где живет приказчик, или у конюшни остановится. И с приказчиком поговорит, и с тем, и с другим, и потом уж, часа через три, пойдет в дом.
— Ермила Антоныч приехал.
— А! Ну, пошли его в кабинет. Самовар поставить.
Дальше кабинета Ермила Антонов, которому говорили,
разумеется, «ты», и не проникал никогда. Там он сторговывал пшеницу или что другое, там «напузыривали» его чаем, там он отдавал деньги и оттуда уходил' спать к приказчику; скуки ради его оставляли ночевкть, чт^обы было с кем поболтать завтра утром на конюшне.
На «купца» смотрели не то, чтоб^»/^резрением, а так,
как-то чудно. Где, дескать, тебе до нас! Такой же ты мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь да пообтесался немного между господами, а посадить обедать с собой вместе все-таки нельзя: в салфетку сморкаешься.
Не знаю, понимали ли или, лучше сказать, чувствовали ли «купцы», что на них гак «господа» смотрят, но, если и понимали, они этого все-таки не показывали. Они делали свое дело, покупали и продавали, садились па ближайший стул от двери, вставали с него каждую минуту, улыбались, потели, утирались, будучи совершенно не в состоянии понять наших рассуждении о политике и всякой чертовщине, составлявшей предмет наших бесконечных рассуждений, как только мы, бывало, съедемся. Не будет ошибкой, если мы допустим, что, слушая наши рассуждения о том, что предпримет Наполеон и какие планы у Пальмерстона, и наслушавшись утром у приказчика его рассказов о той путанице и бестолковщине, какал идет у нас в хозяйстве, они думали: э-эх, далось им в руки сокровище — земля, да еще работники к ней даровые, а они, вместо дела, чертовщину несут!
Таковы были взаимные отношения города и деревни вплоть до 19-го февраля.
Тут все сразу изменилось.
Впопыхах и в заботах о своей безопасности мы и н> сообразили даже, что «город», то есть купцы — почти все сплошь дети наших же отпущенников, а очень многие и сами были когда-то крепостными, откупались, записывались в мещане, расторговывались и делались купцами. Хотя все это ни для кого из нас не было новостью, но мы тем не менее с удивлением и даже с каким-то больным чувством в сердце стали явственно замечать, что все их, купцов, симпатии не на нашей стороне, а на мужицкой. Начнешь, бывало, жаловаться какому-нибудь Ермиле Антонову на свое положение, начнешь рассказывать, как «распустили» народ, а он слушает-слушает, икнет, да и скажет:
— Великую милость даровали народу!..
Такое же точно грустное и даже обидное разочарование нам преподносили и «попы». Как ни благодетельствовали мы им — я не говорю, разумеется, об исключениях, — они все поголовно были тоже на мужицкой стороне; но о них здесь нечего распространяться, и если я упомянул об этом, то потому только, чтобы показать, в каком изолированном положении мы вдруг очутились.
Конечно, чувство зависти у тех и других к нашему привилегированному сословию было причиной их злорадства, когда они увидели нас «в беде»; но нам, лишившимся этих привилегии, узнать, что мы окружены врагами, что люди, которые всегда называли нас своими благодетелями и потом нажились от нас, теперь радуются нашему несчастию», — узнать это, повторяю, было тяжело и обидно.
И ничего нет странного, что добрая половина из нас была не в состоянии перенести всех этих обид, огорчений, волнений, оскорблений, плюнула на все и уехала кто «отдыхать» и «воспитывать детей», кто «подышать чистым воздухом за границу», да к тому же «там и жизнь дешевле, не говоря уж об удобствах». Более же энергичные попытались скорее завести «заграницу» у себя дома, в своих Ивановках и Осиновках, накупили машин, завели немцев, выписали вестфальских свиней и семена пшеницы, найденные в египетских мумиях, проделали невероятные по смелости эксперименты над наукой и логикой, но в конце концов «уходились» и они. И они плюнули на все, бросали кому попало на руки или вовсе продавали свои Осиповки и Ивановки и сделали то же, что и «легкомысленные», то есть уехали «отдыхать». А между тем для оставшихся жизнь, выбитая из прежней колеи, тащилась по какой-то новой, совсем неведомой дороге, где что ни шаг, то сюрприз. Явились мировые посредники, начальником стал свой же брат — сосед. Исправников стали назначать губернаторы, а не выбирать. Прошло еще сколько-то времени, и словно из земли выросли судебные следователи, а там уж и пошло... Каждый, как спокон веку заведено это у нас. дудил в свою, разумеется, дудку, и началось черт знает что. Недели не проходило, чтобы не было надобности ехать з город то к тому, то к другому начальнику.
И такое обилие начальства явилось вдруг после совершенного, можно сказать, отсутствия его!
А «попы» между тем злорадствуют и хоть называют нас по-прежнему «благодетелями», но это «один обман»: но глазам видно, что злорадствуют... А с другой стороны подмигивают, глядя на нас, купцы и, якобы из участия, а на деле по злорадству же, расспрашивают у нас о наших несчастнях» и затруднениях.
— Да, барин, житье-то не прежнее, я вижу. Трудно, что и говорить!
И вслед за этим вдруг:
— Великая милость дана народу!..
Спрашивается: какую бесстыжую силу воли надо было иметь, чтобы вынести все это?.. А «город» тем временем все более и более тяжко наседал на «деревню», то есть на нас. Все эти поездки и мытарства требовали денег, а они разве были у кого в запасе? И потом, как ни плохо и глупо велось хозяйство, все-таки, когда хозяин жил в деревне, хоть воровства-то по крайней мере не было, а теперь, когда чуть не круглый год пришлось жить в тарантасе или в городе, в гостинице, понятно, все стало разваливаться и «прахом идти».
Всем нам в это время дозарезу нужны были деньги. А деньги были у «купца». Надо, стало быть, за ними обратиться к «нему». Мы обращались, и «он» давал. Сначала, сгоряча, эту податливость его и ту охоту, с которой «оп» давал нам деньги, мы приняли было за дань его уважения и благодарности к нам, так как «ведь он от нас не нажился», но эти идиллические взгляды на «кулака» продержались очень недолго. Подугольников дал раз, два, три, подождал, и порядочно-таки подождал, да вдруг и приехал сам.
Хотя этот раз по-прежнему его дальше кабинета испустили, но он уже сам попросил, чтобы подали ему водочки, и спать на ночь к управляющему во флигель не по- • шел, а спал в кабинете на диване.
Утром же, вставши чуть ли не на заре, обошел и осмотрел все хозяйство, обо всем расспросил и хотя, уезжая, склонился на просьбу и дал еще денег взаймы, но это был уже не тот, не прежний Подугольников, который, бывало, только потел и утирался... А когда он приехал еще следующий раз, то его не только пришлось опять положить спать в кабинете на диване, ко надо было позвать обедать в столовую, строго-настрого приказав детям не смеяться, если Подугольников станет сморкаться в салфетку.
Конец едва ли надо рассказывать. Он так понятен и естествен. Оп должен был оказаться именно таким, каким он и вышел, то есть Подугольников должен был «слопать» нас и — слопал.
Таким образом, руки, подхватившие Осиновки и Ивановки, которым мы «бросали» на аренду или вовсе на «вечные времена», были вначале руки по преимуществу купеческие. Мне. конечно, нечего говорить, что здесь все время под общим именем купца я разумею и кулака-мещанина, и кабатчика, и проч.
Что же начали делать эти руки, когда они подхватили Осиновки и Ивановки?
Из двух предыдущих моих очерков и из того, что я буду сейчас дальше говорить, читатель, конечно, видел и увидит, что я вовсе не апологист старого строя; но из этого не следует, что я обязан восторгаться новым деревенским строем, если вижу, что на смену одного безобразия являлось другое, и бог весть еще, которое из них хуже и ядовитее. Помещик, лишенный крепостного права, на самый худой конец был только бесполезный человек. «Купца», в том смысле, какой он постарался присвоить себе, занявшись» Осиновкой или Ивановкой, мало назвать бесполезным. И потом еще: пятнадцать лет назад у всех владельцев этих Осиновок и Ивановок вы, наверно, встретили бы и газеты и журналы, увидели бы и гравюры, услыхали бы и рояль, и спать бы вы легли на чистое белье. Теперь, когда поселились купцы 2-й гильдии, Поду-гольников и кабатчик Лупов, кроме вонючей солонины, тешки севрюжьей, водки и позеленелого самовара вы ничего не найдете. Поэтому я и не думаю, чтобы в данном случае отечественный прогресс что-либо выиграл от такой замены.
Читатель известного закала, пожалуй, готов уже погладить меня за это по голове, в надежде, что я вот-вот сейчас начну сетовать, отчего «не поддержали вовремя помещиков».
Нет, дорогой мой, нельзя было. Еще не было такого примера, чтобы то, что не имеет в самом себе живой силы, будучи поддержано, оживилось и окрепло. Мы изуродовали себя своим образованием и воспитанием, и, повторяю, такой силы нет, которая могла бы нас поднять на ноги и спасти. Кроме нас самих, нас никто не спасет и спасти не может.
Не дождавшись, когда бывший владелец Осиновки выедет окончательно и навсегда из своего гнезда, Поду-гольников уже начал в него перебираться. Приехали «молодцы», приказчик приехал, какой-то «родственник». Хотя и глуп он, но «дяденькинова» добра не растратит; у него и ключи.
На другой же день по приезде вся эта честная компания начала свою деятельность. Один «молодец» съездил в
деревню, выставил у кабака «четверть», угостил «стариков». поднес молодым, и деревня прислала даром десять подвод, на которых Подугольников и отправил в город всю ту рухлядь, которую он купил вместе с Осиповкой. «Родственник» между тем тоже не дремал и успел загнать одного борова крестьянского, который зашел на бывший господский выгон и начал гам что-то рыть носом, потом загнал еще быка из мужицкого стада, который, увидав бывших господских коров, а ныне принадлежащих Подугольников). не утерпел и прибежал к ним на свидание. И борова, и быка вечером мужики выкупили. Таким образом, п первый же день, на первых, можно сказать, порах, было получено уже «доходу» около красненькой. Что же дальше-то будет, если хорошенько ко всему присмотреться?
И действительно, доходность имения увеличивалась с каждым днем все в том же вкусе. Так. например, на краю усадьбы, как раз возле проезжей дороги, стояла довольно просторная изба, и в ней жили ни на что не нужные три старика: бывший дядька прежнего владельца, слепой доезжачий и разбитый параличом буфетчик.
— Это вы, старички, уж к своему барину идите, а мне эта изба самому нужна.
— Да куда же, милостивый купец, мы пойдем к барину нашему, когда и сам он на ветру остался?
— Ну, это уж не мое дело, а изба мне нужна, и вот вам неделя сроку на очистку ее.
И в самом деле, через неделю над избой висела на палке грязная красная тряпка, а над теми окнами, что выходят на дорогу, была прибита вывеска с надписью: «Питейный дом». А так как кабак был за две версты от деревни и водка там была дороже, чем у Подугольникова, то «мужики» и стали ездить за ней «на барский двор», чем, кроме оживления ландшафта, приносили и несомненный доход «новому барину».
И много таких усовершенствований Подугольников ввел в «запущенном» именин, и все эти усовершенствования и нововведения его ничего, кроме выгоды, не давали. Все мало-помалу приняло, и даже довольно быстро, совершенно другой вид. Сад и парк были вырублены и распаханы плугами под бахчи. Га же самая участь, разумеется, постигла и огороды с парниками, и цветник, черт знает для чего занимавший почти десятину земли. Дом был сломан и перевезен в город, где его опять собрали, оштукатурили, покрыли, выкрасили и пустили туда жильца, а сам 11оду-голыжков для «летнего приезда» оставил себе флигель, в котором до него жили гувернер-немец и семинарист Скворцов, преподававший детям «русские предметы»
Одну только штуку пощадил Подугольников — триумфальную арку, бог уж знает для чего выстроенную при въезде во двор. Очень уж «прекрасна» была эта арка, сколоченная из тесу и выкрашенная в желтую краску, с распластанными наверху белыми девами, трубящими славу. Он даже влюбился в нее. Просто глаз от нее оторвать не мог. Как выйдет на двор, так сейчас на эту арку и посмотрит.
— И ведь что им, прости господи, господам этим, в голову лезло. В грех меня ввели! Когда я первый раз въезжал, ведь я их за херувимов принял и крестное знамение сделал, а они вон даже и не ангелы совсем, — говорил он «батюшке», приехавшему служить благодарственный молебен.
I ем не менее все-таки арка ему до того понравилась что он, желая сделать ее еще более прекрасной, повесил на ней зеленый флаг.
— И какой это здесь дух для дыхания чистый и легкий!— удивлялся все вначале Подугольников, когда пил чай после обеда на крыльце.
— Это оттого, что здесь, дяденька, со всех концов ветер продувает, — отзывался «родственник».
— И видно, что дурак! У нас в городском доме отчего такая вонища? Оттого, что свиная бойня на дворе. А вот. при божьей помощи, на будущий год, как устроим это самое заведение и здесь, так тоже за версту носы затыкать станут.
Но, кроме Подугольпиковых и Луповых, город дал деревне, для сформирования нового помещичьего сословия, кандидатов другого образца. Так, почти все бывшие секретари уголовной и гражданской палаты, губернские прокуроры, секретари консисторий, уездные стряпчие, инспекторы врачебной управы, даже штатные смотрители уездных училищ — люди уж на что, казалось, маленькие, — и те купили себе, каждый по достатку своему, по «именьицу».
Весьма естественно, что они, каждый с своей точки зрения, находили, что бывший владелец имения «запустил» его, и поэтому, каждый по-своему, принялись выводить запустение, то есть предались реформаторской деятельности как относительно усадьбы, так равно, пораженные невежеством мужиков, не замедлили принять меры, которые могли бы обуздать их своеволие И в то время, когда Подугольников ломал и драл силой, эти последние в свои отношения к «мужикам» внесли, так сказать, нравственио-воспитательный элемент.
— Видишь, милый мой, — кротко говорил мужику, попавшемуся с нарубленными в «барской» роще оглоблями, секретарь консистории: — я сам с тебя штрафа не беру — это будет самоуправство, а пусть нас по закону рассудит волостной старшина. Как он рассудит, так и пусть будет. Может, даже еще и мне тебе придется заплатить, как смел я тебя поймать в моей роще. Я нынешних законов не знаю. Прежде у нас, когда я служил в консистории, воровать не позволялось, а теперь, может быть, и разрешено...
— Да уж не тяни ты мою душеньку по судам-то, — молился мужик, хорошо вперед зная, что если, избави господи, дойдет дело до старшины, то придется втрое заплатить: и «барину», и старшине, и писарю. А времени-то что понапрасну пропадет.
— Нет, их надо к закону приучать. Я люблю все по закону. Я сам привык и их приучу. Это для их же пользы.
И батюшка, приехавший сюда служить благодарственный молебен, прослушав такие совершенно справедливые замечания и сентенции бывшего секретаря консистории, а ныне помещика деревни Осиновки, конечно, не может с ним не согласиться, ибо наш мужик действительно так распущен, ах, как распущен!..
Конечно, времени прошло еще слишком мало с тех пор, как секретарь консистории Сладкопевцев купил Осиновку, и потому еще трудно заметить, насколько, благодаря его наставлениям и стараниям, мужик успел усвоить себе понятие о правах собственности вообще; но все-таки уважение к священной собственности «нового барина» заметно уж и теперь.
И это Сладкопевцева сперва даже радовало.
— У меня чуть что — сейчас штраф. Сперва маленький, ну хоть рубль; второй попался — вдвое: в третий раз — втрое. Мужика надо учить не дубьем, а рублем. — И т. д., и т. д.
Но в то же время, чтобы показать мужику, что он не из корысти единственно штрафует, но и для его же пользы нравственной, Сладкопевцев все полученные штрафы начал заносить в особо заведенную для сего книжку, и однажды, выходя в воскресный день из цгркви, остановился на паперти и кротко обратился к народу:
— Православные мужички! — сказал он. — Вы негодуете на меня за мою строгость, но я проявляю ее для вашего же усовершенствования. Вы думаете, я стяжал, — ан ошибаетесь, и я вам это сейчас докажу. Батюшка! — обратился он к вышедшему в это время тоже на паперть служителю церкви. — Будьте посредником и свидетелем. Отныне я объявляю мужичкам, что со всякого налагаемого мною на них штрафа два процента жертвую в пользу беднейших девиц духовного звания в нашем уезде. Вы, батюшка, будете получать от меня эти деньги, согласно штрафной книжке, и время от времени пересылать их к отцу благочинному. Я никогда не отказывался от доброго дела, — заключил он, и голос его дрожал, а на глазах блистали слезы. — Вы думаете, мне легко вас наказывать?
Тронутые этим, мужики молчали и в знак согласия чесали в затылках.
Но этого мало. Желая еще более доказать свое несребролюбие и вообще усовершенствовать крестьян, Сладкопевцев начал каждое воскресенье, после обедни, на паперти объявлять прощение штрафа одному из попавшихся на прошлой неделе...
Но все эти подвиги Подугольникова и Сладкопевце-ва — представителей «нового барина» — относятся, как видит читатель, больше к области сельской и даже, правильнее, вотчиной администрации и очень мало знакомят с их сельскохозяйственной деятельностью.
Неужели и Подугольников и Сладкопевцев, покупая Осиновки, так-таки ничего дурного в виду не имели, кроме обуздания мужиков и их совершенствования?
По-видимому, так.
Нельзя же в самом деле принять вырубку леса, распашку выгонов, заведение кабаков и свиной бойни, чем ознаменовал себя Подугольников, и обширную, удивительно разработанную систему штрафов и вымогательств, введенную Сладкопевцевым, за сельскохозяйственную деятельность.
Нельзя; но ничего другого, поселившись в Осиновках, они тем не менее не делают.
Конечно, эга деятельность иногда разнообразится. Так, вместо свиной бойни иногда Подугольников накупит у мужиков, во время взыскания податей и недоимок, телят, коров, гусей, уток, откормит все это, порежет и свезет на продажу в город или на базар. Но и это ведь какое же сельское хозяйство? Так же точно нельзя назвать сельским хозяйством и варианты занятий Сладкопевцева: ростовщичество и кляузнмчанье.
Вообще надо принять за несомненный факт то обстоятельство, что и Подугольников и Сладкопевцев, сделавшись «господами», обратили гораздо больше внимания на усовершенствование мужиков, чем на землю Землю оба они очень охотно отдают в аренду мужикам, но делают это не так, как делали прежние помещики, то есть отдают не сразу, не всю, за круговой порукой, целому селу, а враздробь, по десятинке, по две, по три, и притом не иначе, как на год. И это, как показал опыт, несравненно выгоднее. По-старому, заплатил мужик два раза в год аренду или, если он неисправный, то заплатило за него село — и конец. Они, мужики, свои люди, сочтутся друг с другом, но помещик} от этой единичной чьей-нибудь неисправности ни тепло, пи холодно. При новом же способе отдачи земель в аренду это обстоятельство всегда имеется в виду, и всегда, кроме выгоды, ничего не приносит. Положим, мужик сиял у «барина» три десятины «под озимые»; это значит, ему следует заплатить (я возьму цены Козловского уезда, Тамбовской губернии) «барину» 54 рубля (18 рублей за десятину).
— Да ведь у тебя, Гриша, — ласково говорит ему Сладкопевцев, — денег пег, и сразу ты мне «всю сумму» отдать за землю не можешь?
— Известно, какие наши достатки, где же нам!
— Ну, вот так бы и говорил. Нечего делать, я тебе рассрочу, но только ты ведь сам мужик неглупый и понимаешь, что это тебе дороже будет стоить. Ведь те деньги, которые ты бы мне заплатил, в кармане у меня не лежали бы, а были бы в обороте и приносили бы проценты.
Мужик чешет в затылке и, зная очень хорошо, что ему и думать нечего обойтись без займа земли: соглашается и платит рубля два или три за десятину лишних.
— Да вот еще, — как бы вспоминая, говорит Сладкопевцев, — у меня ведь, ты знаешь, жена бесплодная, так мне хотелось бы на лето взять к себе племянничков из семинарии. Уж ты, голубчик, съезди за ними, привези их. Я тебе дам письмо, тогда ты и привезешь их. Лошадки у тебя, слава богу, есть, и тебе ведь это ничего не будет стоить, а им, сиротам, радость будет!
— А в какое время ехать-то за ними надо будет? Ведь если в рабочую пору...
— Не скрою от тебя, мой милый, в рабочую.
— Туда день, да там день, да оттуда день... — считает мужик.
— Нехорошо, этого не делай. Кто для сирог не жалеет, того бог не оставит.
В конце концов мужик, разумеется, соглашается ехать в семинарию за племянниками; но при уходе Сладкопевцев, опять как бы припоминая, останавливает его.
— Совсем было позабыл. Жена у меня ты знаешь, женщина больная, так где уж ей по хозяйству заниматься! Вот я и сдал огороды... Сами мы, таким образом останемся на зиму, значит, и без капустки, и без огурчиков, и без картофельку...
— Это точно, ежели теперь...
— Ну, вот то-то и дело. Ты сам понимаешь, сам мужик не глупый. Оттого, что не сажал, сьп не будешь, а есть зимой и нам захочется. Так уж ты голубчик, насчет картофеля и прочего — понимаешь? Это, впрочем, я с тем и всем землю роздал, чтобы овощами поделились. С миру по нитке, а голенькому рубашка. Так ведь, Гриша? Хе-хе...
И таких «ниточек» голенькому на рубашку выговорить, при сдаче земли по новому способу можно довольно-таки. Но это не все. Наступает срок уплаты денег; у мужика их, разумеется, нет, или если и есть, то не вся «сумма».
— А вот это уж нехорошо; этого я не люблю Условия надо строго держать. Что ж я теперь буду делать? Я на тебя понадеялся, а ты вот какой...
Мужик божется, клянется, что следующий взнос все аккуратно «предоставит», но Сладкопевцев, как настоящий современный «сельский хозяин», разумеется, соблюдает свой интерес и выговаривает себе за отсрочку арендной платы еще несколько «нигочек».
А так как мужик, для «легкости», платит ему аренду раза четыре в год и так как подобные сцены повторяются почти всякий раз, при каждой уплате, то из «ниточек» образуется иной раз у Сладкопевцева клубочек, равный по ценности всей арендной сумме.
Не менее может приносить дохода в современном помещичьем «сельском хозяйстве» и раздача денег взаймы. Эта отрасль «хозяйства» гоже очень прибыльна, если вести ее как следует и иметь при этом мужественный и непреклонный характер. Здесь этих ниточек, о которых сейчас говорил Сладкопевцев, можно набрать еще больше и их действительно с каждым годом собирают все больше и больше.
Самое лучшее здесь то обстоятельство, что этой отрасли, несомненно, предстоит блестящая будущность. И вот почему.
Мужики, как известно, повинуются тем же законам и указаниям природы, как и мы, все прочие люди Отсюда ясно, что и им, хотя бы инстинктивно, но присуща забота о продолжении своего рода. Кому и для чего их род нужен — это вопрос другой, но факт тем не менее остается фактом. Что же касается земли, на которой они сидят, которая их кормит и которая, кроме того, должна еще ироизращать «ниточки» для Сладкопевцевых, то в количестве и в качестве своем остается она тою же самою, какою была и при подписании «мужичками» уставной грамоты. Понятно, что с каждым годом все более и более ее «не хватает». А отсюда ясно, что нужда в займах у Сладкопев-цева растет и должна расти точно так же прогрессивно, как арендная цена его земли.
Все это, как известно, не ново: это уж на все манеры всю прошлую осень жевали наши газеты и на эту же тему заговаривались в Вольно-экономическом обществе. Тем не менее от всего этого вопрос ни на волос не подвинулся вперед, и в своем современном практическом положении, кроме вышерассказанных упражнений Сладкопевцева, из себя ничего не представляет.
Чем все это кончится — вопрос другой, и решить его я не берусь; по теперь, в данный момент, дело стоит именно так, как рассказано. Если принять во внимание, что вопрос такой огромной государственной важности не может быть решен ни н год, ни в два и что для этого разрешения потребуется пройти ему многое множество фазисов и инстанции, то я и не думаю, что мое предсказание Сладко-певпеву блестящей «сельскохозяйственной» карьеры не основательно. Напротив. Пока что и как, а он будет преспокойно собирать себе «ниточки» и наматывать их п хл>Оочек. будет долго еще ни жать, ни сеять, и долго еще разные Федьки Корявые. Егорки Кривые и проч., и проч. будут ездить за «сиротами» в семинарии, полагаясь на слова Сладкопевцева, чю бог их не оставит за это.
Такое же точно предсказание, мне кажется, можно сделать и еще одной отрасли современного «сельского хозяйства» — сельским аукционам.
Всякий становой, даже самый либеральный и просвя-щениый, должен, конечно, наблюдать, чтобы подати и недоимки во вверенном ему стане не накоплялись, а вносились обывателями полностью и своевременно. Это с одной стороны. А с другой — всякий, живший даже не подолгу в деревне, знает, какое существует у мужиков на сей конец предубеждение.
Когда, например, становой приедет за какими-нибудь земскими, земельными и иными платежа-ми к Подугольни-кову, тот спросит «бумагу», по которой с него «следует», посмотрит ее, покряхтит, вздохнет из глубины живота своего, вынет бумажник и заплатит деньги. Сладкопевцев же мало того, что заплатит, но даст еще бумажки, все новенькие, чистенькие.
— Это для меня святое дело! Знаете ли, — скажет он становому, — я теперь только вздохнул свободно. Ей-богу.
И всем приятно. Никаких споров, никаких угров, никаких описей и продаж — ничего этого у новых помещиков нет. Оттого и становой всегда с удовольствием останется у них и закусить и вообще «приятно провести время».
— Ну, а как получаете с осиновских мужиков? — спросит его при этом Сладкопевцев. — Народ, я знаю, все мошенники.
— То есть как вам сказать? Оно, положим... Но все-таки, что ж я стану делать — не свои же за них платить — назначил аукцион!
— А когда?
— На пятницу назначен. Будете?
— В пятницу? Пожалуй. Да стоит ли приезжать? Может, так же, как прошлый раз.
— Да ведь прошлый раз вы же им дали взаймы.
— Вот это-то и беда моя: не могу я видеть этих страданий. Ведь в йогах валяются, а дашь — не платят, жди. Оно, конечно... А не знаете, Подугольников будет?
— Подугольников-то уж наверное будет. Вы с ним вдвоем все и купите.
И тянутся таким образом они, эти «новые помещики».
за становыми с одного аукциона на другой, как шакалы за героями на войне. Но и тут, в этой отрасли сельского хозяйства, Подугольииковы и Слпдкопевцевы держатся совершенно разных приемов. Подугольников, как приедет в село, где назначен аукцион, сейчас прежде всего в кабак, а молодцов запустит во дворы к мужикам.
— Вы меня слушайте! Лучше отдавайте по вольной цене. Теперь дам рубль, а ужо на аукционе четвертака не дам — все единственно за мной останется. Это я вас жа-леючи делаю. А какой упрямиться станет... Уж супротив меня ведь никто не пойдет... Вы на этого иуду Сладкопев-цева не смотрите, не зарьтесь на него. Он из вас всю кровь высосет своими процентами. Я что? Купил овцу или корову, и прощай — наживай с богом другую, мне дела нет, а ведь он своими процентами обеих слопает.
— Что и говорить, — соглашается мужик. — Только уж и ты-то больно дешево даешь. Набавь, милый друг; ну. разве слыхано овцу за полтинник покупать?
Сладкопевцев же покупает совершенно иначе. Приехав в село, где будет аукцион, остановится гам, где уж стоит или где непременно остановится и становой, если он еще не прибыл. «Мужички» это знают, то есть знают, зачем приехал Сладкопевцев, и потому возле становой квартиры сейчас же собирается голпа Сладкопевцев, как будто ничего не ведая, преспокойно сидит себе под окошком и посматривает на улицу.
— Что это, мужички, вы собрались?
— Да вот к твоей милости. Выручи, заставь богу молить.
— Что такое? — удивляется он. — Иль опять неисправность?
— Опять, родименький.
— Нехорошо, нехорошо. Как же это я вас выручать стану, когда вы и в казну-то неаккуратно платите? Ведь мне вы и подавно не отдадите.
И долго, долго тянет он эту канитель, пока, наконец, вымотает у них всю душу и добьется каких ему нужно условий. А условия эти обыкновенно заключаются в отдаче ему мужиками засеянной уже земли в залог, с тем, что они должны все, что на этой земле родится, убрать, обмолотить и урожай пополам с ним разделить, да еще, кроме того, кстати уж заодно и «ниточек» намотает себе клубочек.
— Только смотрите, мужички, выручить вас я выручил, но и вы зато уж будьте аккуратны. Я у вас ничего не взял. Я не этот разбойник Подугольников. Он человека раздеть готов; а от меня вы уходите — все у вас цело. Ведь ни одной овцы у вас не продали — все за вас заплатил.
— Так-то так, — чешутся мужики, — только уж больно ты нас насчет посевов-то нагрел: смотри ведь, половина всего урожая твоя.
— Это, мужички, теперь еще божье дело. Об этом вы не говорите. Посмотрим еще, как хлебушка-то в руки нам дастся, а теперь что! Разве это хлеб — трава одна! Все бог.
— Это правда — его святая воля... А вот насчет мага-рычика, если бы твоя милость была...
— Можно. Я разве для вас жалею? Я ведь не Подугольников. Он жидомор, я хоть сейчас. Сколько же? Четверти довольно будет?
— Что же, милый человек, на целое село да четверть даешь. Это и по шкалику не хватит.
— Ну, хорошо. Нате на полведра.
— Да не жадничай уж, дай на ведро-то.
— Нате, православные, бог с вами! Разве мне для вас жалко. Разве я, — и т. д.
Вокруг кабака стон стоит. С этим «казенным» ведром пропивается еще «свое» ведро, которое уж добывается в кредит всеми неправдами от кабатчика. — и все довольны.
Доволен и становой, потому что недоимки получены сполна, и ему уж по этому делу не надо вновь приезжать в Осиновку. Доволен и Подугольников, потому что ввиду аукциона, хоть и немного, но все-таки успел купить по четвертаку за рубль две — три коровы, две — три свиньи и десятка два — три овец. Доволен и Сладкопевцев, ибо «небезвыгодно» и с небольшим риском «поместил капитал».
— Теперь вы отсюда куда же? — спрашивает он станового, когда выпили, закусили, напились чайку и им подали лошадей.
— Теперь-с? Теперь к Ивану Петровичу в Ивановку. У него опись назначена завтра. Совсем уж, кажется, готов. Вот бы вам Ивановку-то купить. Золото именье.
— Знаю, но боюсь. Откровенно говорю — боюсь. Разбросаться боюсь. Много и так денег по добрым людям разбросал, а нынче платят-то, сами видите, как...
<<<--->>>
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

