Раздел ХРК-380
Пришвин М.М.
Мирская чаша.
Сборник
— М.: Худож. лит., 1990.— 272 с. (Серия «Роман-газеты» для юношества.)
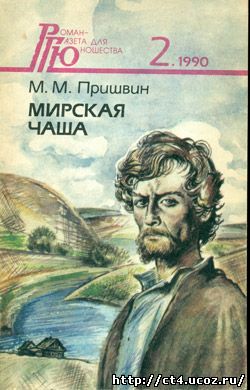 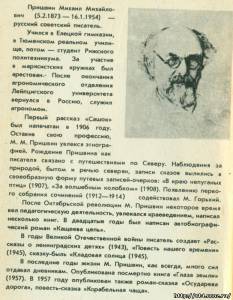
Аннотация
В сборник вошли повесть «Мирская чаша», а также дневник писателя 1930—1932 годов.
Содержание
Эдуард Афанасьев ПОХВАЛА МИРУ
МИРСКАЯ ЧАША. 19-й ГОД XX ВЕКА
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
Примечания
ПОХВАЛА МИРУ
«На радость и на страдание рождается человек, и на долготу его дней перед Господом».
И всем этим был украшен Пришвин.
Пришвин родился в 1873 году, и его рождение совпадает по времени с некоторыми памятными событиями в нашей национальной истории.
Человеку свойственно задумываться над датой своего рождения. Он почему-то не хочет видеть в ней только пустые цифры и упрямо намерен прозреть за слепотою Случая неявные следы Замысла. Как и имя,— нередко дарованное ему его ближайшими в суете и спешке,— он примеривает эти даты на себя, стремясь обнаружить скрытый, неразличимый постороннему взору смысл, а порою и черпает в этих непростых загадках силы для очень сложных и малообъяснимых душевных поворотов. В свою разгадку он редко кого посвящает и уносит ее зачастую с собой.
По-видимому, и у Пришвина были на этот счет свои тайны, свои отсчеты и свои узнавания; более, конечно, теплые и более сердечно привязанные, чем могут примы-слиться историку литературы, но были. Ведь поведай мы ему, что усматриваем символическую закономерность, что в этом же самом, 1873 году, умер Тютчев и одного великого тайновидца природы без промедления сменил другой, возможно, он посчитал бы неуместной нашу арифметическую точность, хотя, наверное, тоже видел, что в национально-природном миропорядке происходят свои пересчеты.
С другой стороны, самые первые годы земного бытия Пришвина совпали с широкой и мощной волной событий (народническое движение и великое «хождение в народ»), которые он, по младенчеству своему, и переживать-то, в сущности, не мог, но которые всем своим строем своеобразно перекликаются с основным настроением его упрямой писательской воли.
3
И так ли уж это странно?! Как и всякое природное существо, человек возрастает в поле духовной энергии, мощных силовых волн, и не беда, что он крохотным мальчиком застает все это: следы этих волн не смываются и остаются. Разве это не накладывает свою печать и не взволновывает душу, по-особому настраивая ее, даже если и проносится пока что мимо сознания? Разве младенцы и отроки последней Великой войны не взлелеяны ее токами — токами противостояния и ненависти, токами единения и Победы?! Ведь даже деревам дано по-своему запоминать страшные засухи и солнечные бури.
Потому-то, может быть, и позволительно таковые совпадения означать и обдумывать; тем более, что младенчество Пришвина пришлось на событие не ординарное, но истинно великое и трагическое. Если и не решившее народной судьбы, то уж, в любом случае, такое, которое слишком близко было расположено к осевой линии движения нации.
Сам Пришвин мог себе позволить порой снисходительно, а порой и прохладно заговаривать о том веском историческом опыте. Но не ясно ли нам, что путь Пришвина, равно как и путь многих замечательных его сверстников тоже был возвратом к вековечным ценностям народной русской жизни и русского народного сознания? И простым или легким тот возврат не назовешь.
1
М. М. Пришвин — писатель всея Руси, и самые обстоятельства его рождения и детства способствовали ему в этом.
Пришвин — выходец из русского Подстепья, из самых черноземных земель российской глубинки. Он родился в имении Хрущево Елецкого уезда тогдашней Орловской губернии.
Потом он,— вослед своему учителю В. Розанову,— начнет различать свою «душевную», и свою «духовную» родину, и как-то полустыдливо будет упоминать о скромной, притаенной красоте родных мест. И только уже гораздо спустя, после того как изъездит практически всю Россию и истолчет
Напомним, что в этом (1873) году или в непосредственной близости от него родились, кроме Пришвина,— Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. Бердяев, Н. Рерих, И. Шмелев и др-Какой бурный фонтанирующий всплеск ярчайших дарований и первостатейных художественных талантов! Россия словно прозревала будущее, стремясь этим преизбытком обороть немилостивость судьбы.
4
столько верст по лесам и болотам, он станет более решителен в выговаривании слов любви своей милой родине.
Родина Пришвина вся на порубежье: и в природе — глубокий лес не добежал сюда, он выдохся и остановился, едва завидев бескрайние степные просторы; но и степь еще только-только начиналась. И в культуре: не так уже далеко отсюда были исторические центры Киевской и Московской Руси или места древних славянских поселений, но и рядом же простирались земли, на которых русские окончательно обустроились сравнительно поздно.
Кажется, и в самом роду Пришвина тоже загодя готовились, чтобы воспринять ходатая за всю Русь. В Пришвине смесились мещанские и купеческие и пр. крови, и только разве заносчивой родовитости в нем недоставало. Если мы вспомним, что мать его была старого обряда, то выходит, что и чудовищные раны, нанесенные русской культуре, русской истории и русской жизни церковным расколом, он тоже должен был избывать в себе, чтобы заслужить право свидетельствовать о всей Руси.
Пришвин — очень русский художник; он, конечно, писатель мирового ранга, но именно потому, что он в высшей степени национален.
Он воспитан всем строем русской жизни и всем обликом русской природы. Его отличает прочная укорененность в нашей истории и, что не менее важно, прочная укорененность в русском быте. Но именно через эту укорененность и через углубление в нее он и выходил в прорывы — к постижению вселенских загадок и тайн мировой жизни.
Даже такие его черты и качества, которые не являются сильными его сторонами, выгодно приспособлены для этой социальной и природной всеохватности и всеотзывчивости Пришвина. В нем, пожалуй, недостает горделивости за свой елецкий край или за свой уездно-усадебный быт, но это неожиданно оборачивается пониманием — с полуслова — всей русской жизни и всей русской природы, равно как и жизни или природы как целого.
Пришвин вывел на свет и дал слово до того вечно молчащим, притаенным и уходящим в самую тень нашей истории началам: святым и целебным первоосновам жизнетвор-чества. Поэтому в Пришвине высказались глубинные и сокровенные слои русского знания о мире, русского постижения мира. Прежде они урывками и нечасто проступали в нашей литературе: они пробовали заговорить устами Достоевского, до него — может быть, Пушкина, а после него — Розанова.
Пришвин долго шел к своему писательству, он вообще медленно созревал, но помимо всего еще и потому, что затеял небывалое, прежде не бывшее в отечественной словесности. Он мог бы идти еще дольше, путаясь и сбиваясь, откликаясь на всякое встречное влияние, не успевая испытать наседающее извне и прокалить его на огне своей главной, первосоставляющей идеи. Поэтому мы имеем право восхититься в нем не только изумительной цельностью его творчества, но и тем, как безупречно точно подвигался он в задуманном направлении, несмотря на то, что шел по целине и без советчиков, невзирая на то, что на пути к этому неизведанному никто не возжигал ему маяков.
Затевая небывалое, Пришвин должен был предвидеть недооценку своего новаторства. Так оно и случилось. Наша критика «просмотрела» Пришвина. Он и до сих пор, пожалуй, самый недооцененный среди наших великих, и его творчество только сейчас, может быть, начинает раскрываться во всей своей полноте и силе.
Конечно, у Пришвина был некоторый «золотой запас»: он мог гордиться одобрением замечательнейших умов России. В первую очередь — М. Горького: миросозерцание и творческая работа Пришвина удобно укладывались в упование Горького — его мечту о «новом русском человеке». Проницательные, веские и восторженные суждения о Пришвине у А. Блока, В. Розанова, Р. Иванова-Разумника, А. Ремизова и др. Но всего этого — по значению Пришвина — было все-таки крохотно мало, и, конечно, главный пафос творческого подвига Пришвина был почти не услышан со- , временниками и плохо понят.
Поэтому писательская судьба Пришвина, несмотря на кажущийся ровный накат его дороги, имеет свой драматизм и свое напряжение.
Очевидно, у каждого человека свой крест и своя Голгофа, каждого жизнь испытывает по-своему, и нам может показаться, что Пришвин крепко и всерьез был испытан бесславием... Быть может, и он смущался душой, наблюдая в прихожей Литературы пустые и банальные фигуры — этих загадочных людишек, которые вечно толкутся там, и потому у всех на глазах, и потому у всех на устах, но которые забываются тотчас же, как с их жизненного календаря упадает последний листок.
Но разве бумажных цветов триумфаторства и лауреатства не хватало Пришвину?! Он жаждал и ждал не этого, он хотел признания нелицемерного — читательского понимания великой новизны своей работы.
6
Впрочем, вопрос о критике в приложении к Пришвину многосмыслен. Неизвестно, обрадовало ли бы его повышенное внимание, особенно если учесть вульгарно-социологическую предвзятость критики тех десятилетий. Да и в любом случае подобной качественно новой творческой работе повышенное внимание могло только мешать и сбивать с толку. Поэтому, пожалуй, есть какая-то высшая справедливость в молчании о нем. Досужие языки почти не задевали его, а судьба словно берегла для исполнения вершинных замыслов. Конечно, «почти» не означает «совсем». Вообще-то Пришвину, конечно, достало внимания от критики, уверявшей, что это писатель болотной экзотики, намеренно сбивающей нашего крепкого читателя в сторону от классовой борьбы Такие уколы Пришвин переживал болезненно, и не только потому, что они ясно нацеливали на оргвыводы. Но,— все-таки! — если поместить это злоречие на фон общей разнузданности критики 20—30-х годов, мы должны признать его относительную «мягкость».
Но чем яснее вырисовывались очертания всего грандиозного пришвинского строения, чем отчетливее обозначало оно свои контуры, тем упорнее он уходил в свое строительство, обращая все меньше и меньше внимания на какую-либо внешнюю хулу или похвалу.
2
По-видимому, А. Ремизов был первый, кто с такою отчетливой дотошностью попытался выследить писательскую родословную Пришвина. И в его очаровательном крохотном этюде, написанном в Париже, на исходе войны (1945), есть проницательные суждения. Он называет в числе предтеч Пришвина С. Аксакова, Е. Дриянского, В. Короленко, Н. Гарина-Михайловского, Ф. Решетникова.
Ремизов не опускался в глубинные исторические слои литературы, отметил то, что лежало на поверхности, и пред-
Оттенок этого «классового» недоброжелательства можно обнаружить, как это ни странно, и в развернутой рецензии Ф. Чело-векова (А.П. Платонова) в журнале «Литературное обозрение». Несмотря на несколько более вдумчивый тон, она вполне могла быть (и была!) истолкована двусмысленно. Как все-таки русских писателей тянет на недоброе в словах и поступках! Даже очень талантливых. Хорошо еще, что Пришвину было уже 67 лет (1940) и по всяким понятиям он был уже списан в глубокие старики.
7
шественников мыслил найти лишь в среде старших современников писателя. Однако теперь, по прошествии почти полувека, мы имеем право более отважно порассуждать и занести более смелые штрихи в эту писательскую метрику. В ремизовской угадке неоспоримо свидетельствование о Сергее Аксакове, но, очевидно, что родословная Пришвина богаче.
Конечно, всякий писатель собирает свое, прежде всего из близких истоков и начал, а великий писатель умеет из этого разнородного материала выплавить нечто неповторимое и неразрываемо цельное.
С другой стороны, через писательство Пришвина,— как и через всякое великое искусство,— проходят силовые линии гораздо большего периода, покрывающие значительные временные пространства и обнимающие не только десятилетия, но даже и целые века. В пришвинских сочинениях и дневниковых записях то тут, то там возникает, например, имя летописца Нестора. Кажется, что он не совсем здесь уместен, тем более, что, положим, повествователь в «Повести нашего времени» в конце концов отвергает его как образец и отводит в сторону. Но не показательна ли эта назойливость повторения, и не поучительна ли эта малая энергия отталкивания?!
И разве это не связано со столь чтимым Пришвиным образцом высокого нравственного поведения Творца — заповедью всей нашей древней словесности, отлившейся у подхватившего ее Н. Карамзина в чеканную формулу: «Пиши как можно лучше и живи как пишешь». Через столь несхожих, но одинаково озабоченных вопросами творческой этики В. Жуковского и К. Батюшкова она была усвоена и уцелеет во всей последующей русской литературе.
Несомненны, по-видимому, и другие связующие линии, проходящие сквозь всю историю отечественной словесности, но берущие свой разбег именно в древности: торжественная серьезность мысли, осознание целостности Божьего мира и благоговейного к нему отношения, понимание, наконец, жизни как высокой и светлой тайны. В самом деле, вспомним дочь древолазца княгиню Февронию и зазеленевшие от прикосновения ее ласковых, умных рук воткнутые в песок мертвые черенки. Ну чем это не пришвинский в своей основе сюжет?! А то, что «Повесть о Петре и Февронии» — редкостный узор восточнославянской красоты — соединяет в себе и литературные, и фольклорные мотивы, особенно драгоценно для случая с Пришвиным. В составной пришвинских начал влияние фольклорных традиций ощутимое.
8
Поездка в Выгорецию (1907) и записи под присмотром Н. Он-чукова первоклассных образцов древних народнопоэтических созданий, в том числе и таких, которые даже в те годы цивилизация уже успела смахнуть с карты остальной России, вовсе не случайно совпадает с началом собственного пришвинского писательства. Здесь Пришвину словно была подарена, вручена на память и передана из рук в руки древняя творческая традиция народной поэзии.
Слово Пришвина отныне понесет в своем составе редкое сочетание светлого взгляда с удержанной высотой этических идеалов. Это будут словно две струи одинаково живых вод: они спасут его от разорванности, уберегут от эзотерических темнот, от погони за усложненностью и изысканностью. Внутри пришвинского взгляда на вещи всегда светится сердечность поэтических представлений русского народа. Это не уступка язычеству и древнему славянству, а то, первоначальное, радостное христианство, памятью о котором остались нам наши ранние соборы (Киевская София!), иконы времен до монгольского нашествия, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Тот же радостный свет внутри, те же ликовствующие ноты...
С другой стороны, Пришвин учен и достижениями великих русских писателей-классиков XIX века. Имена этих писателей он безустанно повторяет в своих дневниках: у него целая десятерица вечных спутников, которых он постоянно имеет в виду, с которыми советуется на очередном жизненном повороте. Первые имена здесь все те же — Пушкин, Достоевский, Толстой которого Пришвин застал еще в живых. Поздние раздумья, равно как и разрушительно-очистительные сомнения Толстого в надобности художества, вообще очень прочно запомнятся Пришвину. Он увидит, что они продиктованы не только отходом современной ему литературы (1900-е годы) от великих возвышающих целей, но и ее неумением, а зачастую и нежеланием ставить высочайшие художественные задачи. Его восхитит и глубина самооценки Л. Толстого, в сомнениях которого таился тяжкий вопрос для литературы как области народной жизни. Это было очевидным продолжением долгого спора, опалившего весь XIX век, но и вместе с тем каким-то исполненным решимости итогом, какой-то чертой, которую подводила себе сама русская литература. В декларируемом Л. Толстым повороте от «выдуманного», «сочиненного» к правде реаль-
1 Только к Гоголю отношение у Пришвина особое: это своеобразный диалог-спор, и тоже вечный.
9
ности Пришвина обрадовало неуемное движение в сторону живой и подлинной жизни.
Довольно долго находился Пришвин и рядом с символистами, несомненно, чему-то научился у них, что-то приобрел в писательском рукомесле, никогда, впрочем, не обманываясь в существе и качестве их находок: так, думая об их вере, он постоянно будет помнить об «умственности» этой веры и иронично, даже с досадой отзовется о «бумажном Христе» Д. Мережковского; а в их собственно литературных начинаниях его ненадолго обворожит изящество формы или умелая полировка слов. Но общение с символистами все-таки было полезно ему, оно нацелило Пришвина на проникновение в самую суть явлений — не скользить на поверхности, а прозревать скрытые, глубинные реальности.
Чтобы схватить жизнь во всей ее полноте, сохранить ее трепет, ее подлинность, чтобы запечатлеть ее ритм и тепло жизнетворчества, Пришвину пришлось быть в постоянном поиске, отлаживая литературные приемы и осваивая множество жанровых форм. Поначалу удобную для своих целей форму он находил в очерке, которому сумел придать легко-крылость и отзывчивость на переживаемое. Однако задача — схватить жизнь во всей неповторимости протекаемого мгновения — побуждает его идти еще дальше в своей раскованности, все решительнее присматриваясь к возможностям свободной лирико-философской, художественной миниатюры (и тут, очевидно, не обошлось без влияния В. Розанова; точнее, без осмысления его триптиха — «Уединенное», «Опавшие листья» (Короб 1 и 2).
Миниатюра помогала фиксировать переживаемое тут же, пока не погасли, не помертвели слова, рожденные моментом; пока не затвердело и не застыло в них живое пламя жизни, обратившись в воспоминания.
Пришвин стремится найти такую полноту слова, в которой бы совмещалась, которая бы соединяла энергию обоих решающих порывов классической русской литературы XIX века: и стремление к пересотворению мира на иных, новых, творческих началах, и доверие к живой жизни, ее тайнам, ее радостным основаниям («благоговение перед жизнью»). Пришвин убеждает нас, что основания пересотворения уже заданы, они затаены во встрече человека и природы и их всего лишь нужно вывести наружу и осознать.
Поэтому Пришвин настаивает на ценности каждого мгновения жизни: ведь именно через каждое мгновение проходит творчество жизни.
Поначалу кажется, что Пришвин говорит о незначитель-
10
ном, утверждает важность неприметного, ушедшего в тень и обнаруживающего себя урывками, случайными отметинами и пр. Но это нечто, что существует внутри жизни всегда. И это не скопидомски собранная ветошь жизни, мелочный и ненужный ее хлам («мусор жизни»), а сокровенно-центральное в ней. Ведь именно ныне, здесь и сейчас, совершается то, чего не бывало вовеки и не будет никогда кроме. И именно через этот, неясно слышимый, кротко текущий миг пробегает центральная ось мировой жизни...
Пришвин одержим уверить каждого из нас, что жить надо в настоящем. Даже чтобы работать на будущее, надо жить настоящим, всею его полнотой. Эта мысль не банальна, хотя и незатейлива с виду. Его заботит умение человека повернуть, обратить, опрокинуть творческую энергию в самое жизнь, а не разбрасывать ее в слова, в мечтания о дальнем, на «поэтизацию» жизни. Каждый, даже малозаметный шаг по раскрытию творческой силы жизни, каждое сознательное усилие (в том числе и по выделке собственной жизни) дороже вороха теорий; оно отзывается во всей Живой Цепи жизни и неотвратимо втягивается в упорядочение и строительство мира.
Каждый миг совершается неостановимое творчество мира, и человек должен войти туда всеми своими силами. Поэтому Пришвин (как и Пушкин) мирит нас с бытом, он показывает, что вечность всегда рядом, она не существует отдельно и далеко, она проходит через, она омывает каждую клеточку быта. Пришвин мирит нас с бытом, но бытом, переживаемым вселенски, через который неостановимо идут мировые волны и перетекания вечности.
3
Осмыслению нового послеоктябрьского миропорядка посвящена повесть-притча «Мирская чаша».
Она выросла на жизненном материале, из раздумий и наблюдений писателя в смоленской деревне 1921 года, но ее образный строй далеко превосходит житейское и наблюденное. Уже тем, что действие повести Пришвин сдвигает к «году 19-му XX века», он недвусмысленно подчеркивает обобщенный масштаб своего взгляда. Та же многозначность проступает и в названии, которым писатель как-то по-особенному дорожил и которое сразу же задает повествованию широту и эпический размах.
Повесть открывает задумчивый плач-запев о России (одинокое и жалостное моление о том, чтоб пронесло «чашу
11
сию»), и судьба Родины на одном из ее великих переломов находится в центре повествования. Это — повесть-прозрение: она бросает трагический отсвет на последующие десятилетия, а в типажах и персонажах «Мирской чаши» задействованы и явлены уже все самые решительные и самые страдательные силы новой нашей истории. Тут и матрос Персюк — о, он еще научит русского крестьянина пахать землю!; и интеллигент Алпатов — это еще не последняя и не самая сладкая луковица в его жизни (глава «Луковица»); и мещанин Крыскин — коему уготована страшная «крещенская» купель.
«Мирская чаша», пожалуй, по времени одно из первых, едва ли не самое пионерное произведение XX столетия, ибо Пришвин выступает здесь уже писателем нового века. Тут впервые, может быть, сказалась и дала явственно себя знать способность писателя идти наравне со своим временем и вместе со всею своею землей. А это совсем непросто. Ведь сколь многие, одинаково с Пришвиным получившие выучку и напутствие XIX века, так и не взошли на следующую ступень, так и не выросли, так и остались писателями старого образца и, доживая свою жизнь — безразлично: в Москве или в Париже,— старательно повторяли затверженный и обессилевший канон. Ветер эпохи пронесся над ними, словно и не задев их вовсе и мало чему научив, а XX век попросту перешагнул через них.
Прозревая сквозь всполохи братоубийственной войны, дым и зарево будущих, более смрадных пожарищ, Пришвин все-таки не покинет Россию, он останется навсегда со своим народом, на своей грешной, на святой своей земле.
Да! эмиграция не баловала: это испытание суровое. Но то, что выпало оставшимся честным русским художникам, было несравнимо горше. Им пришлось принять на свои,— еще вчера казалось,— неноские плеча ответственность за творимое на родимой земле во всей ее полноте и мере. Им выпало столько перевидеть, перестрадать, перетерпеть и передумать, что мы уже по-иному оценим меру человеческой хрупкости. Им предстояло сменить разлетевшийся вдребезги гуманизм XIX века, чтобы в мужестве и терпении искать новые и более прочные основания.
...И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час...,—
горделиво прошепчем мы о всех них вслед за поэтом.
Но как же не скоро придет это истинное оправдание!..
12
4
Вблизи великих социальных бурь и вселенских катастроф человечество тянет переписывать вечные книги. Грандиозность чаемого или пережитого и переживаемого затмевает все прошлые слова: они кажутся натужными и бледными.
Как в истинной любви, бывает время, которое подвергает сомнению все ранее выговоренное о любви; и это все, сказанное кем-то, когда-то, но не тобой (нами), представляется приблизительным и неточным. А заново постигаемая, заново открываемая, завораживающе трепетная реальность требует, чтобы о ней сказали сильнее, правдивее, тоньше и — главное — точнее.
Также и здесь. И хочется переписать историю мира, не ведавшую о ныне происходящем.
Великие творческие эпохи вызывают на соперничество самые сокровенные книги. Так, русская литература XIX века брала себе в соревнователи «Фауста» и «Гамлета», «Дон Кихота» и «Потерянный рай», «Илиаду» и «Одиссею»; она подошла к Новому завету и остановилась перед ним.
Однако послереволюционная литература — в обоих ее рукавах: и внутрироссийском, и эмиграционном,— поддалась еще большему искусу и пробует свои силы на переписывании Истории Мира. Даже в извращенном и превратно понятом стремлении разбить основания прошлой литературы бьется живая и обновленческая кровь. По-видимому, весьма скоро мы станем спокойнее и вдумчивее разбираться во всем этом и тогда подивимся, сколько евангелий, иеремиад, пророчеств и апокалиптических видений оставлено нам в наследство тою эпохой.
И здесь Пришвин не одинок и работает в общем направлении. Он тоже пишет новую Книгу Бытия, новую Книгу Жизни.
Сколько раз Пришвин оговаривался, что стремится схватить встречу человека и природы, намеренно подчеркивая значение этой встречи; и сколько раз это отмечалось, но как-то не по силе высказанной мысли.
Для Пришвина вся природа говорит о человеке. Человек — ее слово, она силится прознести его; она стремится к человеку, как к своему, наконец-то выговариваемому слову. Таким образом, книга природы есть книга о рассеянном в природе и вновь собираемом цельном человеке. Именно через природу, любовно всматриваясь и вслушиваясь в нее, мы яснее понимаем и прочнее осознаем, что же такое человек как долго выговариваемое и наконец-то выговоренное слово природы.
13
Поначалу представляется, что мир, запечатленный в поэтических видениях Пришвина,— мир живой и страстный,— это новый парафраз библейской Книги Бытия. Точнее, той небольшой части, всего в несколько десятков стихов, что повествует о шести днях Сотворения Мира и именуется Шестодневом.
Повесть «Женьшень», кажется, дает особое поручительство для такого прочтения.
Вообще положение этой повести в творчестве Пришвина исключительно. По-видимому, было бы неточным сказать, что именно с нее начинается тот великий Пришвин, которого мы все знаем,— подобно тому, как истинный Бетховен начинается с «Героической», а Толстой с «Войны и мира»,— а все, что написано до этого, как бы в зерне, в проблесках, в потенции содержит то, что разворачивается впоследствии. Вместе с тем, она действительно означает важный рубеж, и сложись судьба Пришвина по-иному (а такая допустимость вполне в духе эпохи), самого главного в Пришвине мы бы так и не услышали.
Предыстория повести тягостна: когда писатель внезапно уехал на Дальний Восток, настроение у него было катастрофическим: после очередного залпа «уличающих» статеек он с минуты на минуту ждал своего часа. Впоследствии он невесело шутил, что какой-то чиновник, казенный человек, составляя проскрипции, дошел было и до его фамилии, но тут отвлекся, а когда снова вернулся к своему «санитарному» занятию, пропустил по забывчивости его имя... Можно ли себе представить Л. Толстого или Ивана Тургенева, живущих в таком томительном смертном ожидании?! 1
Однако этот нечеловеческий трагизм не обнаруживается в повести, он ушел внутрь, в ткань прозы, и утаился там, что придает повествованию огнедышащую мощь и страстность.
Так прощаются с миром.
Но здесь не утешительный свет примирения, а безумная, слепящая полуденная яркость и невыносимый свет. Так прощаются с миром еще во всей полноте и силе мужественной зрелости.
Словно вырвавшись из небытия и ада, человек заброшен в этот земной рай и оставлен здесь один на один и лицом
1 Впрочем, будь в свое время опубликована «Мирская чаша», судьба Пришвина и в самом деле «сложилась бы по-иному».
14
к лицу с природой. Он успел застать, захватить мир еще только что сотворенным, еще неостывшим от Творения, и все, исключительно все здесь живое, и каждый камень, каждый ручей, и каждый росток излучает жар творческих рук. Мир еще не присмирел, не остыл, не утомился. Это юный, это новый мир.
А завершается Творение словом. И Адам — человек, в горделивой своей осанке — нарекая цветы, краски и звуки — упорядочивает мир. И каждое новое слово не без труда накладывается на предмет, ибо каждый придирчиво примеривает его на себя, но, поворчав, соглашается с Адамом.
Помните: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему» (Бытие, 11, 20).
Да, Адам еще одинок и не обрел Евы. Он не понимает свое глухое, неясное томление, он безотчетно силится отыскать что-то и в каком-то смутном беспокойстве, с замиранием сердца оглядывает холмы, ручьи и дерева. Что ты потерял, Адаме? Вот он почему-то застывает взглядом на прекрасной грациозной оленихе: его словно неуловимо ведет какая-то еще не узнанная им вполне, но все яснее и яснее открывающаяся ему красота. Он как будто в каком-то неясном и зыбком полусне («И навел Господь сон на Адама»). И чем яснее проступает эта красота, тем отчетливее складывающееся на его устах, рождающееся слово любви. И это все более ясное и точное обретение красоты неудержимо стремит его к Еве...
5
Пришвин — писатель, связывающий начала.
Он прорастает из единства почвы, истории и культуры и не намерен от чего-либо здесь отказываться, отрекаться, не намерен поступаться чем-либо.
Он — не крестьянин, но прожил жизнь в близости к земле, знает ее тяжкую силу, да и по образованию вдобавок аграрий. И он дорожит крестьянским отношением к земле, крестьянским отношением к миру, ибо провидит внутри, в глубине этого отношения, те же самые, дорогие ему, творческие начала, прообраз вечного доброжелательства земли и культуры, братский диалог человека и природы.
И он настойчиво запечатлевает особенности этого отношения, словно боясь, что они уйдут и не останутся, не успеют сохраниться в памяти нации.
Он вообще словно спешит закодировать радость — ра-
15
дость, как принцип мировой жизни,— желая спасти ее, уберечь как национальное и всеобщее достояние.
Пришвин положил всю жизнь, чтобы отменить, опротестовать одно из самых грандиозных заблуждений, одну из самых непререкаемых и отчаянных иллюзий, что будто страдание глубже радости, что зло богаче, интереснее и многообразнее добра и что именно зло вырабатывает весь аромат, все богатство и качество жизни. Чтобы восстать против этой роковой неправды, надо было иметь мужество. И Пришвин — действительно мужественный писатель. Он — русский интеллигент, запасшийся мужицкой неподатливостью. Он трезво видит жизнь, оба ее конца, но выбирает твердо. Поэтому-то он совсем не похож ни на тех небожителей, кому не слышны и не дороги зовы и беды земли, ни на тех, кто, как наши маленькие литературные наполеончики, зовут хватать с разных концов жизни, без удержу мешая добро и зло.
Напротив, Пришвин весь целен, и как птица, застигнутая в перелете, он бесстрашно и упрямо ведет свое дело в одну сторону, и поэтому всякий,— в какое бы из пришвин-ских владений не ступил,— сразу же втягивается во всю даль пришвинской перспективы. (Оттого и не имеет значения — как и с чего начинать читать Пришвина, ибо его упрямая, но светлая намагниченность подхватывает читателя сразу.)
Быть может, Пришвин самый несвоевременный по своему времени художник. В эпоху, когда разбиваются храмы, он строит Храм; в десятилетия, когда все заряжены ненавистью, он твердит о Любви; во времена, когда сминают и коверкают личность, он славит Творческого Человека!
Может ли быть большая слепота?!
И все творчество Пришвина — это как бы ответ на социальные катастрофы вселенского масштаба. Поэтому в его ответе — чтоб уравнять мрак — и свет невыносимый...
Но, с другой Стороны, Пришвин, очевидно, вырос на всеохватном порыве, знаменующем великий всемирный перелом, и его творчество, качественно иное, новое, смыкается с грандиозными устремлениями философов русского космизма, с начертаниями Вернадского и др., выросшими на той же геологической волне, на том же всеохватном порыве.
Поэтому он не только писатель, наиболее чутко уловивший подземные толчки и новые творческие гулы земли, но и открывший двери в совершенно неизведанное будущее.
Однако это совершенно неизведанное и новое вдруг оказывается поразительно близким к жизни, к простой и обыденной жизни.
16
Литература по-разному ведет себя по отношению к простому человеку и по-разному может участвовать в его жизни. И если представить себе человека (Адама) путником, переходящим поле жизни по перепаханной целине, а писателей — расположившихся рядом, то не ясно ли нам, где здесь может быть Пришвин?!
Нет, он, конечно, не вон тот литератор-певец, заливающийся соловьем и вполне безраличный к бредущему и едва выволакивающему ноги Адаму.
И уж, конечно, не тот, в пророческой тоге, кто стоит в стороне — на сухом — с выброшенной вперед дланью и, словно уличный регулировщик, строго прикрикивает: «Идите— туда! Там — хорошо!!!»
Вон и третий. Более сердобольный. Тот даже может с пролетающего ковра-самолета сбросить бедолаге отлично запакованные новенькие сапоги: «Трудись, Адаме!»
Не таков Пришвин.
Весь этот путь он прошагал сам. Он промерил его весь, своими ногами, и потому, видя бредущего через поле и увязающего в глубокой пашне Адама, он не будет назидать и учить. Он просто встанет и пойдет рядом.
Только и всего...
Но как это здорово, что он есть — такой старик!
Мой брат.
Твой брат.
Всем брат — Михаил!..
Э. Афанасьев
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан