Раздел ХРК-341
Мариетта Андреевна Турьян
"СТРАННАЯ МОЯ СУДЬБА..."
О жизни Владимира Федоровича Одоевского
Вступительная статья В.Э.Вацуро
Художник В.Ситников
Издательство "Книга" Москва 1991,- 400стр, серия "Писатели о писателях"
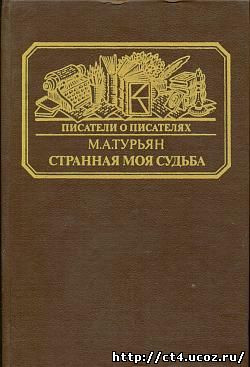
Содержание:
В.Э.Вацуро. Судьба "русского Фауста".
Вместо предисловия.
Часть первая. МОСКВА.
Несколько слов об одном городском предании.
Глава I. Завещания .
Глава II. Пансион.
Глава III. "Странник в своем доме".
Глава IV. Дервиш.
Глава V. "Мнемозина".
Глава VI. Накануне перемен.
Часть вторая. ПЕТЕРБУРГ.
Глава I. "Расскажи ему о моей женитьбе...".
Глава И. Начало Петербурга.
Глава III. "В мире чиновническом...".
Глава IV. Новые либералисты.
Глава V. "Довольно я наказана судьбою...".
Глава VI. Литературный салон.
Глава VII. "Дом сумасшедших".
Глава VIII. "Скромный Ириней".
Глава IX. "...Видел я скромную отшельницу..." Провинциальный анекдот.
Глава X. "Себастиян Бах". "...Часть моей жизни растерзана...".
Глава XI. Журналистика.
Глава XII. Конец тридцатых.
Глава XIII. "Вторая жизнь...".
Глава XIV. Еще конец тридцатых и начало сороковых.
Эпилог.
Примечания.
Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать
Мариетта Андреевна Турьян
"СТРАННАЯ МОЯ СУДЬБА..."
О жизни Владимира Федоровича Одоевского
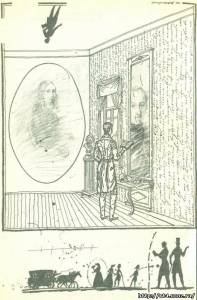
СУДЬБА "РУССКОГО ФАУСТА"
Среди культурных деятелей пушкинской эпохи, да и всего русского девятнадцатого века, герою этой книги - князю Владимиру Федоровичу Одоевскому — принадлежит одно из самых почетных мест.
Он не был обойден вниманием — ни у современников, ни у потомства. Один из немногих, он не стяжал себе смертельных врагов в эпоху бурных литературных и общественных полемик. Его ценили Полевой и Пушкин, Шевырев и Белинский; он пользовался приязнью в среде декабристов и в кругу высшего правительственного чиновничества, а позднее, уже в конце жизни, его считали князем-демократом. Нравственная репутация его была неоспорима, как и культурные заслуги: он оставил свой след в истории русской прозы, критики, литературной и музыкальной, философии, педагогики, законодательства, библиотечного дела и даже кулинарного искусства; в эпоху обособления наук он сумел остаться принципиальным энциклопедистом. И интерес к его личности и творчеству сохранился до наших дней, то ослабляясь, то усиливаясь, но не исчезая вовсе. Единственный из "младших светил" пушкинской эпохи, он стал героем классического историко-культурного труда — монографии П.Н.Сакулина "Из истории русского идеализма. Князь В.Ф.Одоевский. Мыслитель. Писатель" (М., 1913. Т. 1. Кн. 1-2), основанной на материалах его обширного архива. Две книги, общим объемом более тысячи страниц, составили лишь первую часть задуманного, но не оконченного Сакулиным грандиозного труда. Семьдесят пять лет последующего изучения вызвали к жизни около трехсот книг и статей — переизданий, публикаций, историко-литературных и теоретических работ — целую библиотеку на нескольких языках, посвященную Одоевскому. В последней по времени английской монографии Нейла Дж.Корнуэлла "Жизнь, эпоха и среда В.Ф.Одоевского" (Лондон, 1986) библиографический список занимает тридцать страниц.
Эта библиотека пополняется теперь еще одной книгой — той самой, которую читатель держит в руках.
Автор ее — М.А.Турьян — является сейчас одним из лучших знатоков творчества Одоевского. Ей принадлежат специальные работы о повестях Одоевского 1830-х годов, о связях писателя с фольклорной и литературной традицией, в частности об истории взаимоотношений его с Пушкиным и И.С.Тургеневым. Но на этот раз исследователь предлагает нам не историко-литературный труд, а опыт целостной биографии писателя Одоевского. Добавление нелишнее: книга доведена до середины 1840-х годов, когда окончился писательский путь Одоевского: жизненный путь его продолжался еще почти двадцать пять лет.
Читать эту книгу можно по-разному.
Читатель, мало знакомый с историографией пушкинской эпохи, найдет в ней связный, последовательный рассказ о формировании личности выдающегося писателя и мыслителя; он будет вникать в перипетии его биографии, где события совершенно личные и семейные тесно переплелись с интеллектуальными исканиями; он будет смотреть глазами Одоевского на "архивных юношей", — затем на Пушкина, Гоголя и Лермонтова; входить в салон, где собирались лучшие литераторы эпохи, и в кабинет "русского Фауста", украшенный черепом и ретортами; он познакомится, и, возможно, впервые, с теми произведениями Одоевского, которые не вошли еще в круг повседневного чтения, — а затем, может быть, возьмет в руки "Русские ночи" или недавно переизданную "Космораму", чтобы погрузиться в своеобразный полуреальный, полуфантастический мир, населенный философствующими мечтателями и стихийными духами.
Искушенный же читатель, в особенности знакомый с литературой об Одоевском, будет поражен.
Он обнаружит — и, вероятно, с немалым удивлением, — что известный ему облик отрешенного от житейских забот литератора и ученого, независимого, живущего скорее интеллектом, чем чувством, окруженного семейным комфортом, дающим ему спокойствие и досуг для ученых занятий, — иными словами, тот облик Одоевского, который сложился в сознании современников и потомства, — начинает двоиться и распадаться, приобретая новые, не известные ранее черты.
Жизнь Одоевского мы представляли себе поверхностно и неполно. Авторы исследований о нем, — иной раз весьма высокого уровня, — почти не интересовались его биографией, а обилие работ создавало иллюзию изученности.
М.А.Турьян, кажется, впервые рассказывает нам о детстве и ранней юности будущего писателя. Она обращается к генеалогическим материалам, семейной переписке, хозяйственным документам. Из них вырисовывается драматическая картина распада семьи, социальной ущемленности, полусиротского детства и ранней юности потомка Рюриковичей, вынужденного в пансионские годы перекраивать и перекрашивать себе старое платье. Семейная драма, вторжение в детство писателя отчима - человека малокультурного, алчного и грубого — породили глубокую раздвоенность в сознании подростка и чувство отчуждения от ближайших родных, отравлявшее ему жизнь десятки лет. Все это сродни тем социально-психологическим феноменам, которые мы знаем по романам Достоевского. Эта драма была тщательно скрыта от окружающих, но биограф, уяснив ее себе и открыв читателю, получил возможность взглянуть другими глазами на всю последующую историю личных и социальных взаимоотношений своего героя. Теперь то, что ранее проходило мимо внимания исследователей, приобретает особое значение. Юношеский "Дневник студента", рассматривавшийся до сих пор исключительно как факт литературного творчества Одоевского, прочитывается теперь как человеческий документ; в пансионских письмах к матери звучат не слышные ранее драматические ноты. В свою очередь этот пласт биографического материала влечет за собою находки в области литературной биографии; так, из книги М.А.Турьян мы впервые узнаем о напечатанных анонимно или под псевдонимом ранних стихах Одоевского.
Здесь можно было бы обратить внимание читателя, что с неизданными документами и не известными ранее данными он будет сталкиваться в книге неоднократно. Иные из таких находок могли бы стать основой для самостоятельных этюдов и статей: таково письмо Одоевского Соболевскому 1826 года с подробной характеристикой его отношений с Грибоедовым или записки Н.Н.Ланской с новыми сведениями о Лермонтове. Но архивная находка, обычно поражающая воображение любителя, для серьезного исследователя - не самоцель, а лишь недостающее звено в общей картине. Неизданных бумаг Одоевского — тысячи; искусство биографа в том, чтобы выбрать из них самое необходимое и существенное — то, что ближайшим образом служит поставленной задаче. Задачей же является прослеживание жизненного и творческого пути писателя. Именно поэтому, как и в рассказе о детстве и юности Владимира Одоевского, внимание биографа обращено вовсе не на сенсационные "находки". Маленькие и на первый взгляд совершенно неинтересные деловые записки Одоевского и Титова 1827 года вдруг предстают ему как несущие драгоценную информацию. В течение десятков лет историки пытались найти подтверждение глухому свидетельству Одоевского, что он принимал участие в подготовке цензурного устава 1828 года — одного из самых примечательных и прогрессивных документов русского законодательства о печати в пушкинское время. Теперь эти подтверждения лежат перед нами.
Писатель, философ, музыковед и кулинар раскрывается нам еще одной ипостасью своей натуры. Чиновник, да; государственный служащий высочайшей образованности и трудолюбия, не жалеющий сил для улучшения российских законов. Именно такие люди брали на свои плечи тяжкое бремя труда и ответственности в любые - даже в темные — времена русской историй. В книге рассказан еще один эпизод, до сей поры неизвестный, — когда Одоевскому было поручено подготовить материалы для кодификации грузинского законодательства. Он изнемог под почти непосильным для него бременем; он изучил законы царя Вахтанга, он собрал все, что мог, о социальных, бытовых, национальных отношениях почтй неведомой ему ранее страны. Он доказывал необходимость законов органических, естественно вырастающих из векового уклада, — и быть может, отчасти ему цивилизация была обязана тем, что на Грузию не были распространены отношения крепостного права. Но здесь уже в нем говорил не только ученый-историк и социолог, доказывавший с фактами в руках, что крепостничество не было свойственно Грузии исторически, — здесь слышался голос и русского политика и общественного деятеля, не приемлющего крепостничества вообще.
Уже одни эти примеры, — а число их можно многократно увеличить, — показывают, с какими проблемами приходится сталкиваться биографу Одоевского. Жизненный путь этого человека неотделим от творческого пути: жизнь его была деятельностью, деятельность — жизнью. Вне творчества, вне постоянной, напряженной интеллектуальной работы Одоевский как личность не существует: это будет другой человек. Биограф Одоевского поэтому обязан быть и историком литературы, журналистики, общественной мысли. Специальные главы и части глав книги посвящены экскурсам в эти области. Этого мало; на протяжении жизни Одоевский общался с бесконечным рядом людей, принадлежавших к самым разнообразным социальным и культурным сферам: от провинциального чиновничества до придворных особ; от петербургского "дна" до иностранных дипломатов. Его жизненный путь пролегает через старомосковское барство, через кружки московских "либералистов" — любомудров, соприкасается с декабристским кругом в лице Кюхельбекера, Александра Одоевского и многих других, через петербургский пушкинский круг, редакцию "Отечественных записок", бытовое и литературное окружение Лермонтова. Все эти люди, кружки, общества так или иначе появляются на страницах биографического повествования об Одоевском. Биография писателя перерастает в биографию поколения.
Здесь нужно отдать должное литературному искусству автора, сумевшего точно выстроить биографический сюжет, подчинив ему весь этот разнородный материал, очень трудный и для осмысления, и для изложения, найдя гармоничное соотношение между центральным и побочным, сюжетной линией и экскурсом. В этом сложном целом свое место занимает личная и даже интимная жизнь героя повествования.
Об этой стороне жизни Одоевского до книги М.А.Турьян мы не знали решительно ничего.
Кажется, никто из исследователей "русского Фауста" и не предполагал возможности той глубокой, скрытой от всех любовной драмы, которую пережил этот человек, — и, конечно же, не знал о той роли, какую сыграла в его жизни Надежда Николаевна Ланская. И уж тем более никто не искал проекции духовной драмы Одоевского в его литературном творчестве.
Между тем в одном из своих писем Одоевский обронил горькое признание, что знаменитые "Пестрые сказки" несут на себе отпечаток чисто личных переживаний и что след их остался в "Себастияне Бахе".
Здесь возникает целый комплекс проблем эстетического, литературного и этического свойства.
Частная жизнь исторического лица принадлежит потомству в той же мере, в какой оно имеет право на его переписку, черновики и сочинения, не предназначенные для печати. Таков исторический закон, — и он требует от потомков лишь одного: отнестись к этому наследию с должной мерой уважения, не превращая его в предмет обывательских сплетен, а, напротив, оценив его как историко-культурный факт. Эмпирический быт, личные взаимоотношения, любовные драмы сублимируются в литературном творчестве писателя, и знание их обязательно для каждого, кто хочет проникнуть, насколько это возможно, в глубины его эстетического сознания.
Именно такая попытка предпринята в книге "Странная моя судьба...", и нам кажется, что попытка эта принесла плоды весьма ощутимые.
У Одоевского нет в собственном смысле слова автобиографических произведений; результаты интроспекции и автобиографические реалии попадают в его произведения сложным, опосредованным путем. Так, в "Пестрых сказках", и в особенности в неизданном наброске биографии Иринея Модестовича Гомозейки, ощущаются отзвуки ранних детских впечатлений. Они становятся конструктивным принципом повествования в "Игоше"; они составляют некий отдаленный фон светских повестей Одоевского. Почти нигде они не выходят на поверхность прямо; они подвергнуты рефлексии, включены в контексты философские и социальные, порожденные зрелым сознанием писателя.
Понять, как они изменились в этом творческом горниле, найти коэффициент их искажения, уяснить облекшую их художественную символику, — значит понять принцип работы художника над жизненным материалом.
М.А.Турьян показывает особое качество автобиографизма в прозе Одоевского.
Анализ "Себастияна Баха" и незаконченного произведения о монахе, влюбленном в святую Цецилию, принадлежит, как нам кажется, к лучшим страницам книги. Бытовая переписка, внешне незначащая, но с глубоким психологическим подтекстом, художественные замыслы, осуществленные и брошенные в самом начале, горбуновский портрет Ланской и "Святая Цецилия" Карло Дольчи образуют некую символическую нить, ведущую в лабиринт духовной жизни человека и художника.
Но обо всем этом лучше прочесть не в предисловии, а в самой книге.
Всю жизнь сам Одоевский, то невольно, то намеренно, создавал . свою биографическую легенду. Тому было много причин, — и не последней из них была свойственная человеку "хорошего общества" первой половины девятнадцатого века органическая неприязнь к демонстрированию своей частной жизни. Он жил по закону этикета, — как бы ни обличал его в своих инвективах против бездушного и "кукольного" "света", но у него были и свои, чисто личные основания скрывать от современников ту социально непрестижную часть своей биографии, которая роднила его, рюриковича, потомка князей Черниговских, с интеллигентами-разночинцами. В результате и создался тот почти идеальный, очищенный образ аристократа-философа и просветителя с демократическими убеждениями, который мы попытались набросать в начале нашего очерка. При всей несомненной привлекательности этого типа, тот реальный образ, который вырисовывается в биографическом исследовании М.А.Турьян, кажется нам еще более привлекательным. Человек, испытавший и материальные, и душевные невзгоды, преодолевший их собственным умом, знаниями и энергией, знакомый не понаслышке с жизнью социальных низов и пытавшийся в меру своих возможностей и социальных убеждений прийти им на помощь, что это, как не гуманист в самом точном и глубоком емысле слова? Он заплатил за свою деятельность тяжкую цену: творчество, наука, общественное служение поглотили его целиком, порвали семейные и дружеские связи, обрекли на внутреннее одиночество и, может быть, непонимание, - но такова была судьба и великих художников. Он выбрал ее сам, — но тем дороже и ближе нам, потомкам, его "узкий путь".
В.Э.Вацуро
* * *
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан