
После войны
МОСКВИЧ
В сенокосную пору случилось мне побывать на Волге, под Костромой. Удивительно хороши эти северные места. Сколько спокойной красоты таится в молодых березовых рощах, как легко идти полевыми дорожками среди наливающейся пшеницы! Ветерок пробегает над нивой и шевелит густые колосья, словно теплая материнская рука ласково гладит мягкие русые волосы ребенка. А узкая дорожка в цветах. Белые воротнички ромашек переплелись с головками клевера и бегут, бегут вдоль тропинки на самый край поля к темнозеленому с красноватым отливом ельнику,, от которого так свежо пахнет грибами.
Ельником выйдешь к светлой студеной речке, за которой опять протянулись поля, и опять перешептываются с ветерком молодые березы.
Я остановился ночевать в небольшой деревне Горишино, вольготно раскинувшейся среди полей и березовых перелесков. Вечером мы сидели на бревнах возле колхозной конторы, и председатель, раздумывая о том, куда бы поудобнее устроить приезжего человека, предложил:
— Вот разве к Москвичу вас направить?
Сидевший тут же артельный сторож подтвердил, что
у Москвича приезжему будет вполне способно.
— К нему и направим, — окончательно решил председатель и, окликнув мальчишку, скакавшего верхом на березовом^ прутике, приказал:
— Петяшка, отведи товарища к Москвичу. Председатель, мол, просит устроить.
Петяшка проулком привел меня к невысокой рубленой избе в гри окошка с голубыми наличниками. Перед избой в палисадничке росли две молодые березки, тоненькие и веселые, как девочки-подростки. Во дворе на обрубке дерева сидел босой мужчина лет сорока. Поодаль женщина, видимо хозяйка, доила корову.
— Дяденька Акимыч, вот председатель просил товарища к вам поставить.
Хозяин поднялся навстречу. Ростом он оказался невелик, но был крепок. Незастегнутый ворот вылинявшей и изрядно поштопанной солдатской гимнастерки открывал сильную, загорелую шею. Скуластое лицо также было коричневым от загара, и поэтому особенно ясно выделялись на нем светлые пшеничные брови.
— Проходите, — сказал хозяин и протянул руку.— Будем знакомы — Федор Акимович Кадников. Тоже только что с поля вернулся. Клевер косим. Пришел вог, разулся и сел покурить. Сейчас. жена корову подоит, ужинать будем. А вы — из области? Из Москвы? Интересно. Ну, как там она?..
Федор Акимович стал расспрашивать, как идет строительство новой очереди метро, поинтересовался, много ли теперь в Москве легковых машин, как выглядит улица Горького, и заметил, что такому городу не мешало бы побольше зелени.
Московские новости живо интересовали его, и я даже подумал, не столичный ли это житель, переселившийся почему-то в деревню. Но окающий выговор Федора Акимовича свидетельствовал о том, что он уроженец здешних, костромских мест.
— Вы жили в Москве?
— Нет, жить не приходилось. Все время в крестьян-, стве. Работы и здесь хватает. Да и вообще у нас народ, как бы сказать, своего места придерживается Это у ярославских больше отходничеством занимаются. У них и раньше — кто в официанты шел, кто в штукатуры. А у нас нет.
Он усмехнулся:
— А вы потому, наверное, подумали, что меня тут Москвичом называют.
— Откуда же идет это прозвище?
— Да, ежели хотите знать, я и в самом деле москвич. Вот поужинаем, объясню вам.
После ужина мы вышли на двор покурить. Уже стемнело. В небе над полями сияли спокойные звезды. С огородов тянуло росной свежестью. Где-то за деревней плескался молодой смех, звенела гармошка и высокий девичий альт смело обещал:
Я березу белую В розу переделаю...
— Поют, — сказал Федор Акимович. — День работают, ночь поют. Вот молодые-то годы...
Он неторопливо затягивался дымком. Вспыхивал и гас в темноте огонек папиросы.
— А Москвичом-то вот почему называют. В сорок первом году, в июле месяце призвали меня, значит, в армию, и попал я на фронт под ААоскву. Наша дивизия как раз на Можайском шоссе стояла. Вы в то время не были там? На Южном? Нет, а я все время на Западном. Очень жестокие шли бои.
Я до того в столице ни разу не был. Вырос в здешних местах, работал все время в колхозе. В Костроме, конечно, случалось бывать, в Иванове, а в Москве ни разу. Даже когда на позицию ехали, и то нас по Окружной подавали. Но тут, когда фашист к Москве подходил, такое, понимаете, было у меня сознание: нету места роднее Москвы, и лучше я костьми лягу, чем пропущу этих извергов. Раньше я был беспартийным, а там, под Москвой, вступил в партию. Так и сказал: бой приму коммунистом. А бои ужасно какие были. Меня там три раза ранило. Правда, сначала-то не очень сильно. Старший политрук товарищ Муканов говорит: «Кадников, ступайте в санбат». — «Нет, — отвечаю, — не могу. Я как-нибудь здесь; с товарищами». А во мне уже начало такое сознание появляться, что действительно — не могу. Старший политрук говорит: «Ладно, наложите ему повязку, пусть остается». Наташа, — такая санитарка у нас была, маленькая, чернявая,—перевязала меня. Но крови потерял я порядочно, и вроде как бы в сон меня стало клонить. Только, видим, опять атакуют ихние танки.
Идут просто нахально. С ходу бьют по окопам. Пулеметы работают. Жуткая картина. Ну. конечно: «Приготовить гранаты»... А танки — рядом совсем, и один прямо, кажется, на меня лезет. Даже жаром таким обдает. Эх, думаю, уж если погибать, так и ты, гад ползучий, погибай здесь. И, сам уж не помню, а ребята после рассказывали, будто закричал я, что есть силы: «За Сталина, товарищи, за Москву!» И связкой — под гусеницу! Сразу по глазам как молнией резануло, и тут я упал.
Очнулся-то уже на столе. Осколок вот отсюда, из-под ребра вынимали. Видно, своей же гранатой ранило. Но танк этот я подорвал. Мне тогда орден Красной Звезды дали. .
Дивизия наша, надо сказать, крепко стояла. Москву защищали. И стали мы друг дружку называть москвичами. От генерала это пошло. Он в приказе нас славными москвичами упомянул.
Потом, когда переломный момент настал и погнали фашиста, вон ведь куда ушли! Я, знаете ли, из Бранденбурга демобилизовался. Уже в другой части служил. Но все равно, встретишь где-нибудь человека, увидишь по ленточке, что под Москвой был. и сразу он тебе вроде родственника. «Москвич?» — спросишь.— «Москвич с сорок первого...» — «На Можайском?» — «Нет, на Волоколамском»... Не нашей дивизии, а все-таки москвич. На Вoлоколамском-то, помните, панфиловцы как стояли...
Ну. вот Попал я в Москву лишь после демобилизации. В сорок пятом Два дня ходил — и на метро ездил, и в парке культуры был. и вокруг Кремля три раза прошел. Великолепно. Столица!
Приехал домой, выступил перед колхозниками. Мы, говорю, москвичи, грудью стояли за Родину, за советский народ. Разгромили врага и нынче не посрамим себя на трудовом фронте. Мы, москвичи... — И пошел и пошел говорить от чистого сердца, как большевику подобает.
Ну, вот меня и стали звать Москвичом...
Федор Акимович опять закурил. Трепетный огонек осветил его немолодое лицо с тонкими прорезями морщинок.
— А мне что же, — продолжал он после некоторого молчания. — Мне это даже лестно. Я ведь московского звания не роняю. Высоко держу. Чья бригада в колхозе на первом месте? Москвичова бригада. У меня дисциплина, сознательность, научная постановка.
А Москва-то, я так понимаю, не только город, а, как бы сказать, — идея. Мысли от Кремля, как лучи, расходятся и всеосвешают. До самых дальних углов достают. И обратно: всякая светлая мысль, какая родилась, — она к Москве тянется.
Он умолк, докурил папиросу и тщательно погасип окурок.
— Заговорились. А завтра вставать рано. Давайте-ка на покой.
Меня устроили в сарайчике, на свежем пахучем сене. Но я долго не мог уснуть. За стеною вздыхала корова. В щели было видно, как на востоке постепенно бледнело небо и низкая звездочка начинала сливаться с лимонной полоской зари.
Спал я недолго и проснулся от шума голосов в проулке. Москвич повел свою бригаду в луга.
— Зорю упускать не хочется, — сказал он. — Зори-то нынче больно хороши.
Утро действительно было чистым и свежим. Деревня просыпалась Скрипели ворота, звякнуло ведро у колодца, и где-то, вероятно, возле'колхозной конторы, выставленный наружу громкоговоритель каплю за каплей ронял позывные Mосквы.
В. Полторацкий. В дороге и дома | По ту сторону. МАРШ К БУДУЩЕМУ
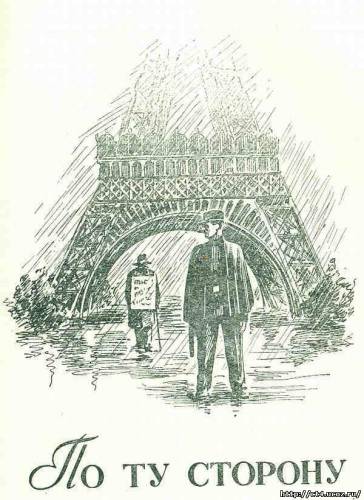
МАРШ К БУДУЩЕМУ
На кладбище Пер Лашез, недалеко от стены Коммунаров, похоронены два молодых француза, два брата Мокэ. Один из них — Серж,— ему было двенадцать с половиной лет,—замучен гестапо. Другой — Гюи — расстрелян гитлеровцами в Шатобриане 22 октября 1941 года. За несколько часов до смерти он написал на стене своей камеры:
«Вы все, которые останетесь живыми, будьте достойны нас, которые умерли за свободу Франции».
Это завещание теперь высечено на мраморной плите, что лежит на могиле братьев.
Приглядываясь к молодым французам, к тем, которые остались живыми, я видел разных людей. В кварталах Сорбонны чаше всего можно было встретить молодых людей в студенческих, защитного цвета куртках с восьмиконечным лотарингским крестом на лацканах. Это — питомцы союза католической молодежи. Можно безошибочно сказать, что большинство из них учится в юридической школе. Как ни странно, но в этом учреждении, где студенты несколько лет подряд на все лады повторяют слова «справедливость», «истина», «закон», прочно свила гнездо реакция. Молодая поросль французской буржуазии изучает здесь римское право, законы французских королей и казуистику модных или бывших модными адвокатов, чтобы, овладев их опытом, карабкаться вверх, наживаться.
Я наблюдал компанию этих молодых людей на Ели-сейских полях возле дома, в котором помещается редакция «Фигаро». Это было ночью, после выборов в Учредительное собрание. Они глядели на экран, следя за сообщениями об итогах выборов, и, когда па освещенном полотне появилась надпись, что в таком-то департаменте католиков выбрано больше, чем представителей других партий, молодые люди с лотарингскими крестиками на блузах восторженно ревели:
— Вив де Голль!
— Всю власть де Голлю!
Я был не один в эту ночь возле редакции «Фигаро». Рядом со мной стоял прогрессивный французский журналист, человек лет пятидесяти. Глядя на этих раскричавшихся молодчиков, он сказал:
— Боже мой, ведь это же старики! Это реакционеры какого-то восемнадцатого века.
— А, может быть, двадцатого?
— Да, да. К сожалению.
Но я видел в Париже и настоящих молодых людей, в груди которых бьется чистое, горячее сердце.
С двадцатилетним монтером' Жаном Тери мы бродили в кварталах Шарон, и этот юноша-рабочий вслух мечтал о будущем Франции.
— Это будет, — говорил он, — обязательно будет! Свобода во Франции перестанет быть пустым словом. Ведь с коммунистами идет все передовое, все лучшее. Я понимаю, что впереди еще много борьбы, но мы, молодые, не хотим возвращения к старому. Мы будем бороться за будущее вместе с коммунистами. Я это говорю за себя и за наших заводских ребят. Знаете, за последние годы мы очень повзрослели. Мы многое видели. Но мы не потеряли веры в будущее. Она даже крепче стала в нас...
Юноша говорил сбивчиво, но горячо, искренне.
— Знаете ли вы, чьими именами мы назвали улицы и станции метро? Именем Габриэля Пери, полковника Фабиана. Это — имена коммунистов.
Я встречал молодых людей в пригороде Парижа, Ив-ри. Они после освобождения французской столицы от оккупантов разбили у себя в пригороде парк и назвали его—Парк имени Ленина. Школа, в которой учатся дети рабочих Иври, носит имя Барбюса.
В один из августовских дней Париж праздновал годовщину освобождения от фашистских захватчиков Этот день начался официальным парадом и завершился грандиозной демонстрацией, организованной Союзом республиканской молодежи.
«Марш к будущему» — так назвали свою демонстрацию юные парижане. К двум часам дня копониы демонстрантов собрались на площади Республики и пошли оттуда через весь город к Трокадеро. В рядах демонстрантов были молодые рабочие парижских заводов, школьники, девушки из мастерских, бывшие партизанки.
Они несли яркие, красочные плакаты, показывающие, как борется французская молодежь за уголь, за хлеб, за восстановление промышленности. Шествие молодежи привлекло толпы парижан, стоявших па всем пути демонстрации. Многие из взрослых и даже пожилых присоединились к юным демонстрантам.
Демонстранты несли портреты своих товарищей, погибших в борьбе с немецкими оккупантами за свободу Франции, за ее будущее, и среди этих портретов были портреты двух братьев Мокэ.
На кладбище Пер Лашез они лежат рядом с бойцами Парижской Коммуны. И на демонстрации в этот раз они были рядом: впереди колонны шел отряд юношей, одетых в костюмы коммунаров 1871 года. Это бы па символическая перекличка эпох, демонстрация верности традициям свободы. Тут же несли плакат, изображающий двух предателей — Тьера и Лаваля, которых одинаково ненавидит французский народ.
В рядах демонстрантов шли бывшие узники фашистского лагеря в Освенциме. Проходя по парижским улицам, они кричали: «Нас спасла Советская Армия!»
— Да здравствует дружба с Советским Союзом! --раздавалось в ответ.
Молодой Париж демонстрировал свою верность демократическим силам Франции, свою ненависть к предателям Сотни плакатов выражали настроение свободолюбивой французской молодежи.
Демонстранты провозглашали лозунги единства демократических сил и громко требовали: «Долой реакцию!»
Эти требования были не случайны Накануне праздника реакционная парижская печать развернула гнусную антисоветскую кампанию. Газеты «Эпок», «Пари матен», «Об» и «Монд» печатали на своих страницах грязные вымыслы, имеющие целью подорвать симпатии народных масс Франции к Советскому Союзу.
Но как бы ни бесновались газеты, как бы ни хотели они, по указке своих хозяев, принизить великую роль советского народа в борьбе против гитлеровцев, французский народ помнит об этой роли. Недаром вторая годовщина освобождения Парижа была отмечена по инициативе самого народа открытием улиц и площадей имени Сталинграда.
Дорога к будущему, за которое проливали кровь лучшие сыны Франции, — это дорога к единству демократических сил. Темные силы реакции пытаются повернуть Францию на иной путь. Но разве ради того боролись лучшие представители французского народа против немецких захватчиков? Еще свежи могилы героев сопротивления. На траурной плите, под которой покоятся братья Мою, высечены слова: «Вы все, которые останетесь живыми, будьте достойны нас, которые умерли за свободу Франции». Эти слова стучат в сердце французской молодежи, французских рабочих и всех, кому дорога свободная Франция. Стучат, как пепел Клааса.
<<<---
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

