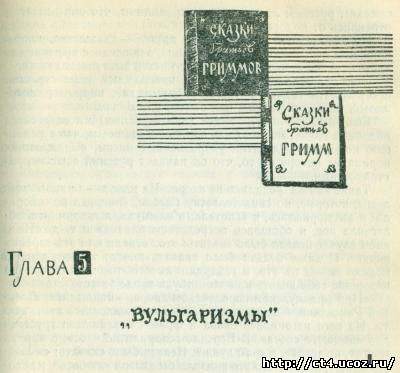
ГЛABA 5
„ВУЛЬГАРИЗМЫ"
I
Нужно ли говорить, что и третья болезнь, от которой пытаются вылечить русский язык всевозможные лекари и целители,— такая же мнимая, как и первые две.
Я говорю о засорении речи якобы непристойными грубостями, которые внушают такой суеверный, я сказал бы, мистический страх многим ревнителям чистоты языка.
Страх этот совершенно напрасен, ибо наша литература — одна из самых целомудренных в мире. Глубокая серьезность задач, которые ставит она перед собою, исключает всякие легковесные, фривольные темы. Такова она с давних времен. Когда в 70-х годах некоторые второстепенные авторы (Бобо-рыкин, Авенариус и др.) попытались поставить эротику в центре своих повестей и романов, передовая журналистика во главе с Салтыковым-Щедриным так сурово осудила их измену
97
высоким русским литературным традициям, что они навсегда отреклись от подобных сюжетов.
Но одно дело — целомудрие, а другое — ханжество, чистоплюйство и чопорность. К сожалению, в последнее время очень часто случается, что под флагом пуристов выступают ханжи.
Они делают вид, будто их изнеженный вкус страшно оскорбляется такими грубыми словами, как, например, сиволапый, или на карачках, или балда, или дрянь.
Если в какой-нибудь книге (для взрослых) им встретятся подобные слова, можно быть заранее уверенным, что в редакцию посыплются десятки укоризненных писем, выражающих порицание автору за то, что он пачкает русский язык непристойностями.
Такие ханжи родились не вчера. Их идеал — те жеманные дамы, которые, по свидетельству Гоголя, «никогда не говорили: я высморкалась, я вспотела, я плюнула, а говорили: я облегчила нос, я обошлась посредством платка» и т. д. «Ни в коем случае нельзя было сказать: этот стакан или эта тарелка воняет. И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, и говорили вместо того: «этот стакан нехорошо себя ведет» или что-нибудь вроде этого».
«При французском королевском дворе,— напоминает Леонтий Раковский,— существовал жеманный салонный язык знати. Из него изгонялись слова и фразы, казавшиеся грубыми для «высшего света». В Версале говорили не «нос», а «врата мозга», не «глаз», а «рай души». Нельзя было сказать: «я люблю дыню», потому что это унизило бы глагол «любить», и говорили потому: «я уважаю дыню». Ни одна придворная дама не рискнула бы произнести слово «рубашка», а говорила иносказательно: «вечная подруга мертвых и живых».
Недалеко ушла от этих жеманниц та русская женщина, которая сказала о своем новорожденном ребенке:
— Я кормлю его бюстом,— так как, очевидно, считала, что слово грудь — непристойное слово.
К числу этих жеманных «эстетов» несомненно принадлежит и тот, которому, как мы только что видели, ужасно не понравилось слово штаны, встречающееся в стихах Маяковского: «Достаю из широких штанин...», «Облако в штанах». Неприлично.
И читательница Нина Бажанова (Киев), приславшая мне сердитый упрек за то, что в одной из статей я употребил слово чавкает.
98
С омерзением пишет минский читатель М. Малевич о гениальном «Декамероне» Боккаччо, возмущаясь тем, что эта «похабная» книга невозбранно продается во всех магазинах — «и даже (!) в киосках».
Харьковский читатель Ф. Хмыров (или Хмаров) в красноречивом письме высказывает свое порицание «Графу Нулину» Пушкина, твердо уверенный, что эта бессмертная поэма написана специально «для разжигания чувственности».
Об Аристофане, Шекспире, Вольтере и говорить нечего. «У них столько непристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-летнего внука»,— пишет мне из Одессы пенсионер Митрофан Кирпичев.
Особенное возмущение вызвал у этих людей литератор, дерзнувший написать: «Сивый мерин».
«Как это мерин? Да еще сивый... Совсем неприлично»1.
Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность?
Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти ликурги считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела бы ущерба из-за того, что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово штаны? Как будто нравы их только и зависят от книг!
Как будто из книг черпают ругатели свое сквернословие!
Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице.
Чем бороться с «грубостями» наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем представителям советской общественности, которые борются со сквернословием в быту.
Впрочем, иные нападают на грубую речь персонажей того или иного писателя не из ханжества, а просто потому, что неверно представляют себе, в чем специфика подлинных произведений искусства.
Читатель М. И. Ш. (Москва) пишет, например, с возмущением о том, что в кинофильме «Все начинается с дороги» употреблено выражение: «На кой (черт) мне твоя корова?», а в пьесе «Начало жизни», поставленной Владимирским театром: «На кой (черт) ты мне сдался!»
1 Александр Морозов, Заметки о языке. «Звезда», 1954, № 11, стр. 144.
99
Читатель П. Д. Р. (Ленинград) возмущается тем, что в повести Г. Матвеева «Тарантул» есть такие жаргонные фразы: «Вот какой костюмчик оторвал...», «Я бы двоек нахватал...», «Брось ты языком трепать...», «Меня первую спросили про его шахеры-махеры...», «Начинают диктовать какую-то муру...»
Такими же недопустимыми вульгаризмами кажутся этому читателю выражения, допущенные В. Дягилевым в рассказе «Дикий»:
«Знаешь, где камни мировые?», «Задаешься на макароны» и т. д.
Равным образом возмущает его, что в повести Д. Гранина «После свадьбы» некоторые персонажи говорят вот таким языком:
«Что это вы шибко серьезные...», «Это я в порядке трёпа», «Быстрее закругляйся» и т. д.
Читательница Н. (Ленинград) негодует, что в пьесе Александра Штейна «Океан» советские моряки пользуются в своей речи морскими терминами.
А почему бы им, спрашивается, и не выражаться именно так? Ведь главный ресурс всякого беллетриста, драматурга, изобразителя нравов — точное воспроизведение типической речи героев, наиболее ярко характеризующей и их личные качества и ту среду, которая отражается в ней. Конечно, такие слова не всегда уместны в авторской речи, но в речи персонажей они прямо-таки необходимы.
Когда Ноздрев говорит в «Мертвых душах»: «Я вовсе не какой-нибудь скалдырник!», а Собакевич утверждает, что просвещение — фук, а мужики советуют друг другу пришпандорить коня кнутом,
а Плюшкин зовет своего товарища однокорытником,— нужно свирепо ненавидеть искусство, чтобы восставать против этих картинных и выразительных слов, придающих жизненную силу гениальному произведению Гоголя. Если, например, гоголевские мужики вместо «пришпандорить кнутом» скажут: «стегать», или «хлестать», или «бить», а знаменитый почтмейстер вместо «мосты висят там этаким чертом» скажет: «там устроены чудесные мосты»,— Гоголь сразу окажется худосочным писателем, далеким от реалистической правды.
Между тем от Гоголя и от его продолжателей современные ему мракобесы во главе с Булгариным, Сенковским и Гречем
100
требовали именно такой обесцвеченной, обескровленной речи. И никак невозможно понять, по какой причине и во имя чего по их стопам так охотно идут наши «приятные во всех отношениях» дамы обоего пола.
Этим они уподобляются тому рецензенту, который, придя в зоопарк, был шокирован вульгарными названиями некоторых птиц и животных.
«Надо,— потребовал он,— еще внимательно пересмотреть надписи на клетках. Порой они звучат слишком грубо. Вот некоторые «перлы» этого литературного «творчества»: «Стервятник», «Выдра», «Ехидна», «Свинья обыкновенная», «Вонючка», «Осел».
Неужели нельзя было обойтись без этих выражений?»1
II
Цинизм выражений всегда выражает циническую душу.
Герцен
Другое дело, когда блюстители чистоты языка восстают против того вульгарного жаргона, который мало-помалу внедрился в разговорную речь некоторых кругов молодежи.
Ибо кто же из нас, стариков, не испытывает острой обиды и боли, слушая, на каком языке изъясняется иногда наше юношество — школьники, студенты и молодые рабочие.
Фуфло, потрясно, шмакодявка, хахатура, шикара — в каждом этом слове мне чудится циническое отношение к людям, вещам и событиям.
Правда, многие из этих слов очень стары, существуют лет сто, не меньше, но теперь, когда они вошли в молодежный жаргон, все они зазвучали по-новому: с экспрессией бесстыдства, развязности, грубости.
В самом деле, может ли питать уважение к девушке тот, кто называет ее чувихой или, скажем, кадришкой? И если, влюбившись в нее, он говорит, что вшендяпился, не ясно ли:
1 Пародия, к сожалению слишком похожая на многие подлинники, заимствована мною из блистательной книги народного артиста СССР Н. П. Акимова «О театре». М., 1962, стр. 297.
101
его влюбленность совсем не похожа на ту, о которой мы читаем у Блока.
С глубокою тоскою узнал я о литературной беседе, которую вели в библиотеке три школьника, выбиравшие интересную книгу:
— Возьми эту: ценная вещь. Там один так дает копоти!
— Эту не бери! Лабу да! Пшено!
— Вот эта жутко мощная книжка!
Неужели тот, кто подслушает такой разговор, огорчится лишь лексикой этих детей, а не тем низменным уровнем их духовной культуры, которым определяется эта пошлая лексика? Ведь вульгарные слова — порождение вульгарных поступков и мыслей, и потому очень нетрудно заранее представить себе, какой развинченной, развязной походкой пройдет мимо тебя молодой человек, который вышел прошвырнуться по улице и, когда во дворе к нему подбежала сестра, сказал ей:
— Хиляй в стратосферу!
На каждом слове этого жаргона мне видится печать того душевного убожества, которое Герцен называл тупосердием.
С острой, пронзительной жалостью гляжу я на этих тупо-сердых (и таких самодовольных) юнцов.
Еще и тем неприятен для меня их жаргон, что он не допускает никаких интонаций, кроме самых элементарных и скудных. Те сложные, многообразные модуляции голоса, которые свойственны речи подлинно культурных людей, в этом жаргоне совершенно отсутствуют и заменяются монотонным отрывистым рявканьем.
И в самом деле, грубые интонации возможны в той примитивной среде, где:
вместо «компания» говорят кодла,
вместо «будешь побит» — схлопочешь,
вместо «хорошо» — блеск! сила! мирово! мировецки!
вместо «иду по Садовой» — жму через Садовую,
вместо «пить» — блоцкать,
вместо «напиться допьяна» — накиряться,
вместо «пойдем обедать» — пошли рубать,
вместо «наелись досыта» — железно нарубались,
вместо «мне это неинтересно» — а мне до лампочки,
вместо «скука» — тягомотина,
вместо «слабый человек» — слабак,
вместо «спать» — кимарить, заземлиться,
102
вместо «говорить» — звякать,
вместо «рассказывать анекдоты» — травить анекдоты.
вместо «познакомиться с девушкой» — подклеиться к ней, и т. д.
Конечно, было бы странно, если бы среди молодежи не раздавались порою протесты против этого полублатного жаргона. Студент Д. Андреев в энергичной статье, напечатанной в многотиражной газете Московского института стали, громко осудил арготизмы студентов: ценная девушка, железно, законно, башли, хилок, чувак, чувиха и т. д. И в конце статьи он обратился к товарищам с таким стихотворным призывом поэта Владимира Лифшица:
Русский язык могуч и велик!
Из уважения к предкам
не позволяйте калечить язык
Эллочкам-людоедкам.
Но мне кажется, борьба с этим «людоедским» жаргоном была бы куда плодотворнее, если бы она начиналась не в вузе, а в школе — там, где и зарождается этот жаргон.
Я знаю два-три интерната в Москве и несколько школ в Ленинграде, где учителям удалось начисто искоренить из речевого обихода учащихся всевозможные потрясно и хиляй. Но такие удачи редки. Слишком уж заразительна, прилипчива, въедлива эта вульгарная речь, и отвыкнуть от нее не так-то легко. К тому же школьники — скрытный народ, и я не удивился бы, если бы вдруг обнаружилось, что главная ее прелесть заключается для них именно в том, что против нее восстают педагоги. Вообще очень трудно отказаться от мысли, что изрядная доля «людоедских» словечек создана, так сказать, в противовес той нудной, фальшивой и приторной речи, которую иные человеки в футлярах все еще продолжают культивировать даже в обновленной, пореформенной школе.
Живым, талантливым, впечатлительным школьникам не может не внушать отвращения скудная проза учебников, которая даже о гениальных стилистах, величайших мастерах языка умудряется порой говорить замусоленными канцелярскими фразами.
Не здесь ли причина того, что в своем интимном кругу, с глазу на глаз, школьники говорят о прочитанных книгах на полублатном языке: уж очень опостылели им «типичные предста-
103
вители», «наличие реалистических черт», «показ отрицательного героя», «в силу слабости мировоззрения» и тому подобные шаблоны схоластической речи, без которых в дореформенной школе не обходился ни один урок литературы, хотя они по самому своему существу враждебны эмоциональной и умственной жизни детей.
Дети как бы сказали себе:
— Уж лучше мура и потрясно, чем типичный представитель, показ и наличие.
Конечно, это лишь одна из причин возникновения такого жаргона, и притом далеко не важнейшая. Не забудем о влиянии улицы, влиянии двора. И вообще здесь не только языковая проблема, но и проблема моральная. Чтобы добиться чистоты языка, нужно биться за чистоту человеческих чувств и мыслей.
Этого упрямо не желают понять многие из наших пуристов. Вместо того, чтобы объединенными силами восстать против тех уродливых сторон нашего быта, которые породили уродливую речь, они в негодовании нападают на современных писателей, изображающих некоторые круги молодежи и правдиво передающих в своих повестях и рассказах их подлинную — «людоедскую» речь.
Существует мудрая пословица:
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива».
Но какое множество у нас чудаков, которые пеняют на зеркало, едва только они обнаружат, что в нем отражаются их низкие лбы и вульгарные челюсти!
И не только пеняют на зеркало, но набрасываются на него с кулаками. А иные, наиболее пылкие, хватают пистолет и ну стрелять в несчастное стекло. Стекло — вдребезги, но «рожи» не становятся краше.
Все это не мешает каждому из таких чудаков чувствовать себя доблестным искоренителем безобразия и грубости, борцом за поруганную красоту.
Разбитое зеркало было, право же, вполне доброкачественное. Оно честно отражало уродов, которые вставали перед ним. А если бы на их месте возник лучезарный красавец, оно столь же правдиво воспроизвело бы красавца во всем блеске его красоты.
Недавно в редакции нескольких столичных газет пришло циркулярное большое письмо некоего рязанского пенсионера, которого мы назовем, ну, хотя бы Тимофей Захарчук. Письмо,
104
типичное для несметного числа наивных людей, жаждущих уничтожить то зеркало, где правдиво отражаются вещи, которые очень не нравятся им.
Прочитав одну из недавних повестей, воссоздающую своеобразный жаргон современных юнцов, возмущенный пурист яростно бранит эту повесть — за то, что ее персонажи говорят на таком языке, на каком они изъясняются в подлинной жизни. Как смеет писатель грязнить свое произведение словами: «шмякнуться на койку», «психовать», «подонок», «я их отшил», «за мной не заржавеет», «выкаблучивать»?!
Праведный гнев Тимофея Захарчука был бы совершенно понятен, если бы вдруг оказалось, что автор сам выдумал эту вульгарщину и с клеветнической целью навязал ее современным юнцам.
К сожалению, это не так. Всякий, кому доводилось общаться с нынешними — скажем по-старинному — отроками и отроковицами и слышать их непринужденные разговоры друг с другом, знает, что шмякнуться на койку, психовать и отшить звучат в их разговорах нередко. Так что автор был бы отъявленный лгун, если бы не воспроизвел в своей повести их подлинную фразеологию и лексику, а вложил бы в их уста дистиллированную речь карамзинского стиля.
Тимофея Захарчука очень мало смущает, что современные девы и юноши пользуются таким грубым жаргоном. Против этого в его письме никаких возражений: пусть себе говорят, как им вздумается, только бы их лексикон не нашел своего отражения в печати. Только бы писатели не воспроизвели его в своих повестях.
Чем объяснить этот панический страх перед книжным воспроизведением того, что наблюдается в жизни? Желанием оградить от этой скверны широкие читательские массы? Но нужно быть отъявленным фантастом, чтобы воображать, будто низкопробная речь черпается нами из книг. Этого никогда не бывает. Вспомним, например, те слова, которые мы зовем непристойными,— ругательные, «непечатные» слова, все еще не искорененные из нашего быта.
Каким образом они вошли в обиход? Неужели вы думаете, что сквернословы почерпнули их из каких-нибудь книг—из рассказов, повестей, стихотворений, романов? Пусть Тимофей Захарчук вспомнит свое собственное детство. Все неприличные слова, которые стали ему известны в восьмилетнем возрасте (или несколько раньше), все они были нашептаны ему одно-
105
кашниками, каждое узнал он по слуху, и книги здесь совсем ни при чем.
«Эти «известные» слова и разговоры,— пишет Ф. М. Достоевский,— к несчастию, неискоренимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты; мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания» \
Это относится ко всем без исключения жаргонам, арготизмам и сленгам, которые угнездились теперь в разговорах некоторых кругов молодежи: они заимствованы отнюдь не из книг.
Разве нынешние девицы и юноши научились жаргонным словам по каким-нибудь книгам?
Правда, иные писатели в своих повестях иногда перебарщивают: дают слишком уж густой концентрат этой речи. Но здесь их писательское право. Разве Лесков не поступал точно так же со своим речевым материалом?
Борьба с вульгаризмами ведется не со вчерашнего дня — главным образом реакционными пуристами. Пресловутый Шишков возмущался, например, такими словами, как «вскарабкаться», «старый хрен» и т. д.
В своем «Театральном разъезде» Гоголь высмеял этот барский подход к языку. Он вывел там одного литератора, который порицает вульгаризмы его «Ревизора», так как ими гнушается так называемое высшее общество:
«Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе?»
В ту пору реакционные пуристы усердно хлопотали о том, чтобы язык «высшего» (то есть дворянского) общества не осквернялся «просторечными» словами.
Это было понятно в эпоху, когда язык разделяли на благородный и подлый, когда Пушкину не хотели простить, что он ввел в поэзию такие слова, как кастрюльки, горшки, тюфяки, ноздри, тын и т. д.
1 Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы, часть I, глава IV,
106
Вопли староверов оказались бесплодны. Демократизация речи, наметившаяся в поэзии Пушкина, стала одной из главных тенденций новаторского творчества Некрасова.
Ревнители чистоты языка, в том числе и те, что хулили «вульгарный язык» Маяковского, заботились лишь о том языке, который встречался им в книгах. Словно эта запечатленная книгами речь совсем не зависит от быта и нравов эпохи. Эти люди как бы сказали себе: пусть устный, разговорный язык будет вульгарен и груб, лишь бы сохранился во всей чистоте язык наших романов, повестей и рассказов.
Напрасные усилия, нелепые хлопоты! Сколько бы ни суетились пуристы, живая разговорная речь непременно просочится и в романы, и в рассказы, и в повести, и в стихи, отражая в себе умственный и нравственный облик той социальной среды, которая сформировала эту разговорную речь.
Все мы помним, какое омерзение вызвал у нас в свое время нищенски-убогий язык Эллочки-людоедки, высмеянный Ильфом и Петровым в незабвенных «Двенадцати стульях».
Говоря об этой скудоумной девице, молодой лингвист Л. И. Скворцов напоминает читателям, что «бедность словаря, убожество языка есть производное от уродливой сущности Эллочки, но не наоборот. И поэтому говорить о «растлевающем влиянии жаргона» как о главной его сущности — значит не видеть подлинной опасности и бороться вместо причины со следствием».
Прекрасная, верная мысль, о которой не мешает задуматься доморощенным нашим пуристам.
Л. И. Скворцов ссылается на Е. Д. Поливанова, одного из самых вдумчивых и талантливых языковедов советской эпохи, который еще в начале 30-х годов утверждал:
«Представляется довольно сомнительной борьба с каким-либо языковым явлением... имеющим внеязыковую причину, если эта борьба не обращена вместе с тем на искоренение этой причины данного явления».
Практический вывод из всего сказанного может быть только один: кому не нравится нынешний молодежный жаргон, пусть ратует за уничтожение тех причин внеязыкового порядка, которые способствуют его процветанию.
Правда, это гораздо труднее, чем обличать литераторов, добросовестно воспроизводящих ту речь, что подслушана ими в жизни.
107
Нападать на их книги — занятие столь же бесплодное, как (повторяю опять и опять) кулачная расправа с зеркалами, отражающими неприглядные вещи, коих нам не хотелось бы видеть.
III
И кроме того: можем ли мы так безапелляционно судить этот «молодежный» жаргон? Не лучше ли взглянуть на него без всякой запальчивости? Ведь у него есть немало защитников. И, прежде чем выносить ему тот или иной приговор, мы обязаны выслушать их внимательно и беспристрастно.
— В сущности, из-за чего вы волнуетесь? — говорят они нам.— Во всех странах во все времена мальчики любили и любят напускать на себя некоторую развязность и грубость, так как из-за своеобразной застенчивости им совестно обнаружить перед своими товарищами мягкие, задушевные, лирические, нежные чувства.
А во-вторых, не забудьте, что юным умам наша обычная, традиционная «взрослая» речь нередко кажется пресной и скучной. Им хочется каких-то новых, небывалых, причудливых, экзотических слов — таких, которых не говорят ни учителя, ни родители, ни вообще «старики». Все это в порядке вещей. Это бывает со всеми подростками, и нет ничего криминального в том, что они стремятся создать для себя собственный «молодежный» язык.
В-третьих,— продолжают защитники,— нельзя отрицать, что в огромном своем большинстве наша молодежь благороднее, лучше, умнее тех людоедских словечек, которыми она щеголяет теперь, подчиняясь всемогущему стадному чувству; что на самом-то деле эти словечки далеко не всегда отражают ее подлинную душевную жизнь. Даже тот, кто позволяет себе говорить закидоны глазками, псих и очкарик, может оказаться отличным молодым человеком, не лишенным ни чести, ни совести.
С этим я совершенно согласен. Таковы же и мои наблюдения. В одном из подмосковных поселков есть школа, где сильно выделяются четверо богато одаренных и небанальных подростков, которых я знаю чуть не с первого класса: Валя, Сережа, Марина и Гера — два поэта, одна пианистка и один еще не нашедший себя не то физик, не то математик.
108
И все же от них еще очень недавно можно было во всякое время услышать:
— Что ты лыбишься (улыбаешься)?
— Это митюха и жлоб!
Конечно, жаргон наложил свою мрачную печать и на них, но печать эта мало-помалу стирается у меня на глазах. Даровитые школьники пользуются жаргоном все реже, и для меня нет никакого сомнения, что через год, через два они окончательно изгонят его из своего языка, так как убедятся на опыте, что он бессилен выразить ту сложную, богатую оттенками душевную жизнь, которая ожидает их в ближайшие годы. Жаргон улетучится почти без остатка, и они станут пользоваться другим языком — человеческим.
Вот, пожалуй, и все, что могут сказать защитники. Не стану оспаривать их утверждения. Пусть они правы, пусть дело обстоит именно так, как они говорят. Остается неразрешенным вопрос: почему же этот защищаемый ими жаргон почти сплошь состоит из пошлых и разухабистых слов, выражающих беспардонную грубость? Почему в нем нет ни мечтательности, ни доброты, ни изящества — никаких качеств, свойственных юным сердцам?
И можно ли отрицать ту самоочевидную истину, что в грубом языке чаще всего отражается психика грубых людей?
Главная злокачественность этого жаргона заключается в том, что он не только вызван обеднением чувств, но и сам, в свою очередь, ведет к обеднению чувств.
Попробуйте хоть неделю поговорить на этом вульгарном арго, и у вас непременно появятся вульгарные замашки и мысли.
«Страшно не то,— пишет мне ленинградская читательница Евг. Мусякова,— что молодежь изобретает особый жаргон. Страшно, когда, кроме жаргона, у нее нет ничего за душой. Я тоже была «молодежью» в 1920—1925 годах, у нас тоже был свой жаргон, пожалуй, похуже теперешнего. Мы говорили: «похиряли хряпать», «позекаешь» и т. д. Но это была наша игра: у нас «за душой» была ранее приобретенная культура. Если человек с детства знал Льва Толстого, Чехова, Пушкина, Диккенса, он мог, конечно, баловаться жаргоном, но ему было что помнить... Если же помнить нечего, если человек знает только жаргон и не имеет понятия
109
о подлинной человеческой речи, а значит, и о подлинных человеческих чувствах, тогда нечего пенять на жаргон, Тогда надо не с жаргоном бороться, а с бескультурьем».
IV
Конечно, моя ленинградская корреспондентка права: культура языка связана с общей культурой. А так как нужно быть слепым, чтобы не видеть, что общая культура у нас очень интенсивно растет, с каждым годом захватывая все более широкие массы, мы не вправе предаваться унынию.
В отличие от подлинных слов языка арготические словечки — почти все — ежегодно выходят в тираж.
Можно не сомневаться, что тот будущий юноша, который в 1973 году скажет, например, рубать или башли, не встретит среди своих сверстников никакого сочувствия и покажется им безнадежно отсталым. К тому времени у них будут готовы свежие синонимы этих жаргонных словечек, а эти либо вовсе забудутся, либо будут отодвинуты в разряд старомодных и размагнитятся, как размагнитился рррака-лиооон в глазах князька из «Записок охотника».
«Бедный отставной поручик,— говорится в рассказе Тургенева,— попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко — авось, дескать, понравится по-прежнему,— по князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом».
Недавно в лондонском «Таймсе» появилась статья о молодежном жаргоне. Автор статьи почему-то уверен, будто этот жаргон — исключительное достояние нашей страны.
Согласиться с ним никак невозможно.
Сейчас предо мною монументальный сло'варь американского слэнга «The American Thesaurus of Slang» («Сокровищница американского слэнга», 1945). В нем 1174 страницы. Шестнадцатая глава словаря называется «Колледж» и вся посвящена арготизмам, употреблявшимся в тамошних вузах. Оказывается, что, например, о хорошенькой девушке в жаргоне американских студентов существовало в те годы 68 (шестьдесят восемь!) арготических слов: вау, драб, диггер, пичалулу, лукерино, лоллео и другие, звучащие нисколько не лучше, чем наши шмакодявка и чувиха.
110
За эти годы словарь до того устарел, что пользоваться им уже невозможно. Все эти вау и драб отцвели, не успев расцвесть. Очень хрупки слова-однодневки: всякое новое поколение учащихся постоянно заменяет их новыми.
Английский филолог С. Поттер насчитал в речи современных британцев целых двадцать восемь арготических слов, соответствующих нашему «уходи прочь». Среди них есть такие непривычные для английского уха, как тушу (shoo-shoo), вемуз (w a moose), имши (imshe), скидеддл (skedaddl) и проч. Нашему железный, законный там вполне соответствуют девятнадцать синонимов, вроде киф (kiff), юм-юм (yum-yum), noui (posh), топ-ноч (top-notch) и т. д., и все они стоят за пределами общепринятой английской речи.
История всех арготических словечек показывает, что сфера их применения узка. К нормативной общепринятой речи каждый из них относится, как пруд к океану.
Хотя, конечно, весьма неприятно, что хахатуры и кодлы так приманчивы для наших подростков, мы не вправе обвинять этот убогий жаргон в том, будто от него в значительной мере страдает общенациональный язык. Русский язык, несмотря ни на что, остается таким же несокрушимо прекрасным.
Каковы бы ни были те или иные жаргоны, самое их существование доказывает, что язык жив и здоров. Только у мертвых языков не бывает жаргонов. К тому же нельзя не сознаться: иные из этих жаргонных словечек так выразительны, колоритны и метки, что я нисколько не удивился бы, если бы в конце концов им посчастливилось проникнуть в нашу литературную речь. Хотя в настоящее время все они в своей совокупности свидетельствуют об убожестве психической жизни того круга людей, который культивирует их, ничто не мешает двум-трем из них в ближайшем же буду-щем оторваться от этого круга и войти в более высокую лексику.
Вообще внедрение арготических выражений и слов в литературную речь—процесс закономерный и даже неизбежный.
Не забудьте, что, например, выражение бить по карману вошло в литературу из торгового диалекта; втереть очки — из шулерского; мертвая хватка — из охотничьего; валять дурака — из воровского; спеться — из певческого диалекта; этот
111
номер не пройдет — из актерского. Двурушник — из жаргона нищих. Бракодел — из диалекта фабрик.
Это говорится отнюдь не в защиту вульгарного жаргона молодежи. Что б ни толковали его адвокаты, все же он в своем словаре и в своих интонациях является печальным свидетельством умственной и нравственной тупости тех, кто пользуется им изо дня в день. И посейчас остается незыблемым тот приговор, который в свое время был вынесен ему А. М. Горьким. В статье «О языке» Горький писал:
«С величайшим огорчением приходится указать, что в стране, которая так успешно — в общем — выходит на высшую степень культуры, язык речевой обогатился такими нелепыми словечками и поговорками, как, например: мура, буза, волынить, шамать, дай пять, на большой палец, с присыпкой, на ять и т. д., и т. д., и т. д.».
Но имеем ли мы право считать это пристрастие к вульгарным словам, наблюдаемое в некоторых кругах молодежи, таким тяжким и неизлечимым недугом?
Всякий, кто внимательно прочитал предыдущие главы, надеюсь, не может не согласиться со мною, что болезни, перечисленные в них, совсем не так опасны и вредны, как принято о них говорить. Ибо язык, как говорят лингвисты, над-диалектен.
Русскому языку не нанесли существенного ущерба ни проникшие в него иностранные термины, ни так называемые «умслопогасы», ни студенческий, ни школьный жаргоны.
Гораздо серьезнее тот тяжкий недуг, от которого, по наблюдению многих, еще до сих пор не избавилась наша разговорная и литературная речь.
Недуг этот в тысячу раз зловреднее всяких жаргонов, так как он может привести — и приводит! — нашу современную речь к худосочию, склерозу и хилости.
Имя недуга — канцелярит (я даю'этой болезни такое название по образцу колита, дифтерита, менингита).
На борьбу с этим затяжным, изнурительным и трудноизлечимым недугом мы должны подняться сплоченными силами — мы все, кому дорого величайшее достояние русской народной культуры, наш мудрый, выразительный, гениально живописный язык.
112
<<<---
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

