ПОВЕСТИ
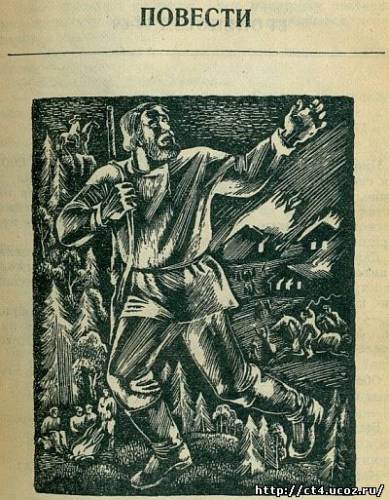
БРОНЕПОЕЗД 14-69
ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС!
I
Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000... как снежные четки... На дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде. Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные, как степные дороги, плечи,— прапорщик Обаб, помощник капитана Неэеласова.
Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские поджарые, словно галеты, буквы.
— Что ж?.. Стекаем, как гной из раны... на окраины... Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?.. В море?
Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:
— Вам лечиться. Надо. Да!
Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня».
Капитана Незеласова уважал, потому повторил:
— Без леченья плохо. Вам.
Незеласов торопливо выдернул сигаретку:
— Заклепаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас яе дойдет!..
И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:
— Как нам стронуться хоть немного... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали всё — нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-с-чет получайте... И не расчет даже» а в шею... в шею!., в ш е ю
И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:
— О, рабы нерадивые и глупые!
Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:
--Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая
глупее — пороть.
— Нельзя так, Обаб, нельзя...
— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Вьет.
— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!.. Копошится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...
— Женщину вам надо. Давно женщину имели?
Обаб тупо посмотрел на капитана.
— Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я здоровый,— каждые две недели. Лучше хины.
— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать...
— Можно быстро, здесь беженок много... Цветки!
Незеласов поднял окно.
Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червяками, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.
На людях клеймо бегства.
Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая : должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.
«Портятся люди»,— подумал Обаб. Ему захотелось жениться. «В семью бы хорошо...»
Он сплюнул в платок и сказал:
— Ерунда!
Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Слюняв хлопающий голос:
— Опять?
-Что опять?.. В чем дело?
II
Обаб и Незеласов взглянули в окно.
Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов. На платформах орудия, казалось, рассматривают его, голого. Голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.
Он едко сказал в плечо Обабу:
— За спасителей нас считают... Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельс вершининский отряд показался... в городе...
Обаб грузно отодвинулся от окна:
— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету.
— Придут японцы... Прикажите воду набирать... непременно... сейчас.
— В появлении? Опять! Неймется.
Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.
— Люблю.
Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:
— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно когда — мясо ржавеет...
Обаб степенно вздохнул. Вздохнули потные острые скулы, похожие на обломки ржавого сухаря, вздохом медленным, крестьянским.
— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка. Рука по вожже зудится...
Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:
— Прапорщик... Кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?
— Генерал Смирнов.
— Ага? А где он?..
— Партизаны повесили.
— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?
— Следующий?
— Вас спрашивают...
—- Генерал-лейтенант Сахаров.
— Ага?.. Он где, где?..
— Не могу знать.
— А... где командующий армией?
— Не могу знать.
Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, и не рассуждать — исполняйте приказания»,— а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:
— Кого вам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами .по телеграмме... Постойте.
Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.
— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.
И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе, Обаб шел по коридору вагона и бормотал:
— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма... Очень нужно... Где?
II
Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.
Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.
«Ненужная Россия,— подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — И ты в этой России».
Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхнула в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко:
— Дурак!
. Жешцина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.
Незеласов отвернулся.
Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.
Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:
— О-о-о-е-е-е.
«Дизентерия,— подумал, закуривая, капитан.— Значит, капут».
Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.
Плоскоепинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу. -.. Издалека? — спросил Незеласов.
Старик ответил:
— А из Сызрани.
— Куда едешь?
Он опустил колун и, шаркая босой ногою с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:
— Куда повезут.
Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.
Редко, видно... говорить-то приходится»,— подумал Незеласов.
— У меня в Сызрани-то земля,— любовно проговорил старик,— отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля,— чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.
— Жалко?
— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.
— Обратно идти далеко... очень...
Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:
— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.
— Неправда. Никого нет.
— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном.— А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?
— Никого нет...
— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я Обратно попрусь, скажи-ка ты мне?
— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.
— И то говорю — умрешь еще дорогой.
— Не нравится здесь?
— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, бог его знает! Фальшиво живет. Зачервиветь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?
— Не знаю,— ответил капитан.
III
... Вечером на станцию нанесло дым.
Горел лес.
Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.
Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.
Прапорщик Обаб хохотал:
— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..
И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.
_ Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:
— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит...
Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.
Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажным» — большеголовый, с седыми, прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:
— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.
— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!
— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейпше. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.
И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил :
W— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.
Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.
Теплые струи воды тороплива потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.
Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.
Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумели мокрые гаоляны.
Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу и на рыжеватых усах со свернувшимися темно-красными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.
— Партизаны его...— зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой.— Вершинин... Они...
В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:
— Партизаны... Партизаны...
Капитан Незеласов прошел по своему поезду.
У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:
— Ваш поезд нас не бросит?
— Не мешайте,— сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину.— Нельзя разговаривать!
— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..
Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:
—- Убирайтесь вы к черту!
Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво, и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах...
— Телеграмма номер двенадцать тысяч пятьсот сорок один, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?
Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.
Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски, стараясь ясно выговаривать букву р:
— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть коман-н-тил-л-рр-лован вместе.
И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно, твердо заученное:
— Уничтожит!.. Уничтожит!..
Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:
— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..
Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.
— Хорошо,— сказал Незеласов.— Прикажите, Оба б, прицепить вагоны... с японцами.
Он захлопнул тяжелую стальную дверь.
— Пошёл, пошел!..— визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.
Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.
Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.
Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.
Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.
IV
А в это время китаец Сии Бин-у лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.
Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища ее была у-вей-цзы, петушьи гребешки, ма-жу, грибы величиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого, и весьма все это было вкусно.
Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.
Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:
— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило, оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!
Пахло камнем, морем.
13 --->>>
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

