РАССКАЗЫ
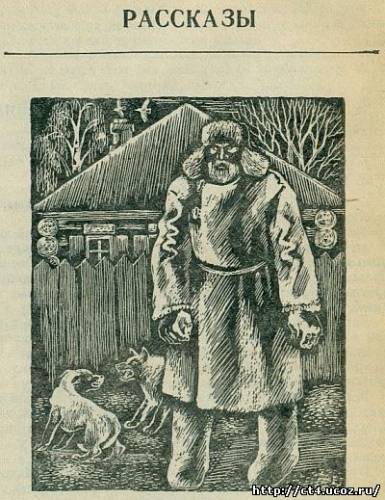
ЛОГА
I
Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху,! смотрит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет крупным осенним мхом. Скажет она горестно:.
— С чего оно в тоске? Зачем?
А небо белое-белое, белее молока. Земля снизу его! поджигает, дышит на него прелым духом.
Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешные улыбки. Они покойны!
Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная борода,— земля, сто лет не паханная. И говорит, точно корни корчует:
— Нонче, паря, урожай! Бог послал!
Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля. Молчит.
Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь у него иноходец; трашпанка—легка, будто из бумаги. И все дань из города привозит.
Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной. А лицо, как темя, неподвижно. Петр говорит ему:
— Пушшай бунтуют. У нас земля удойная, а город, ён все припрет сюды. Им бы бунтовать.
Идет Аксинья мимо мужа; в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз. А ночью, когда жмет ее, давит и зыбко дышит на ее тело,— закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.
Шла бабка Фекла по. пригону: яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую землю навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:
— Ребятишки, баю, в Расее-то без ног родятся. Ксинь, а?
— Не знаю.
— Ничто народ ноне не знает! Ране хоть старова случались, теперь вот своим умом зажили. Слякотной народ.
— Тошно мне, баушка!
— А ты Миколе Мирликийскому да Пантилимону свечку вверх ногами поставь. Сглазили, усю Расею антихрист сглазил!
И опять зашарила руками, зашебуршала сеном.
— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.
— Видьмедя там я не видала, что ли?
— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..
— Куды мне шелка? Скука.
И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь — не выходит дух.
И все село такое огромное. На версты — в лесу, в хлебах.
Из города, как начался голод, приходили тощие, с Широкими пустыми мешками, просили.
— Бог подаст! — отвечало село.
Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие вавидовали им:
— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.
— А ты не бунтуй!
И лохмоногие псы рвали сапожонки уходивших. Тоска и широта.
II
Желтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.
Скрипели высококолесые тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме лежали тесно тонкие, как -жерди, сухие люди.
Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывших тела, густым слоем надуло песок.
— Нан хлепа, нету чок...— говорили они.
Голоса их были, как ветер в курганах,— свистящие а одинокие.
— Хлеба нету!..
Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишац и струпья. Отходя, говорили про киргизов:
— Не выживут...
Петр сказал киргизам!
— Проезжай!
— Нан нету!.. Хлепа нету...
Ветер вырывал из прорех халатов клочья шерсти. Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть. А верблюды, тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа их морщилась, как солнце в засуху.
Петр встретил Аксинью в воротах и молча посторонился.
Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной, веле-речил:
— Я им, на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хочут, халипы. Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, не-маканому, мало за верблюда.
— Гнать их — и больше никаких,
— И то гнать. Чуму припрут!..
— Ты в город-то когда торговать?
...Киргизы сидели на траве подле арб.
Курчавый казак Санька Убычев резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша, кидал ломти на траву.
Киргизы жадно "хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.
Курчавый подбрасывал ломти, кричал!
— Лопай, ну!.. Ешь досыта, ешь...
Леясавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.
Киргизы, хватая ломти хлеба, благодарили!
— Щикур, Санка, щикур. Спасибо.
Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже как огромные темные капли.
А курчавый Санька Убычев все резал и резал хлеб.
— Лопай! Бог один, вера разна! Ешь.
— Берна, берна!..— бормотали киргизы,— Верна.
Заметил Аксинью.
Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица. Открылись глаза — голубые, большие — как мокрое блюдечко. — Чего ты? — спросил он.— Зачем пришла?
А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на вы* едкую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдалось радостным холодком. — Ничего, парень!..
К Ушла, приминая траву, и трава увядала под ее ногой. Думала: «Есть на земле еще жалость». ...А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой травке, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла мешок до каравана.
Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяла шепотом голодные киргизские собаки. Не выдержала. Опустила мешок, убежала. L Киргизы подняли мешок, спрятали.
III
Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.
Гриб — огромен и ядрен. (Атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя внутре для гриба кишка переварная не годилась, и пошали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента брильянтовая подарена за грибы была). Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг...
Дорогу трава заедает. И заела бы, кабы не киргизы г не дед Емолыч — они по ней в город ездят. И жмут дорогу лога — колею украсили чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цёпляется. Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.
Идет она березняком, боярышником — кажется, что запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.
Цепляются мысли за дорогу, как чертополох за колеса, сердце в горькой и едучей полыни сохнет: — Господи... Где же люди-то? С жалостью...
Идет Аксинья, томится.
— Господи! Может, и твой глаз спален, как эта в степь-то? А?.. В городах-то, бают, землю гложут, кал мень, сухой да твердый... А и то по правде жизнь пере. Делывают... Пошто так-то, господи?.. Здесь-то эвон на полземли распахнуло хлебами-то... Через леса прут, пашня ен мала... А людям жадно, все жадно... Хамство ты наше окаянное!..
...Курчавый Санька — один только, красным лампасом штанину окрасив, изогнулся, стоит поодаль, киргизам ломти широкие бросает. А глаз у курчавого голу, бой, жалобный...
Идет Аксинья, под кусты склоняется.
Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы...
Пьет сердце и он, курчавый. И еще дорога, попираемая травами. И пески с голодными киргизами, а больше всего он — город... Посмотреть бы, какова там жизнь?
Идет Аксинья, плачет:
— Господи! Может, и твой глаз спален, не видишь!.. Где они, очи твои, господи!
Обнимает трава-лепетун ноги. Обнимает голову боярышник, ягоду тяжелую и мягкую на темя роняет. Утки крякают в травах.
— Спален, может, господи?..
Молчит господь, онемел. Непонятно глух, И только лога говорят слова жадные и немилые.
IV
Встретил курчавый Аксинью за селом, глаз его голубой плывет, тает в небе.
— Гуляете, Аксинья Семеновна?
— Скотину сбираю... Скот в логах.
Стоит он у боярышника, куст тоже курчавый — ягода мягкая... «А какие у курчавого губы?..»
Потупилась Аксинья, а потом подняла неспешно глаза, темно на душе стало у курчавого, темно и жутко, как в самом темном логу.
И разошлись они. Она в лога. Он в село.
А на другой раз — сел напротив, в травы.
— Торгует муж-то? — спрашивает. На губах — хмель: не то смеется, не то завидует.— Торгуют ваши-то?
К — Наши-то? : — Ну?
— В городе, меняют. Обида ведь это, Саньша! Ведь на голоде наживаются! . — И Петр?
Вспомнила она Петра — его черной земли бороду. Ноги тяжелые, прямые, как деревья, шагают. И на груди — как после надсады... и на память дед Емолыч, хан казанский... Жадность какая!..
Хохочет курчавый, в. — Что ты, Александр Григорич?
— Чудной народ, прямо не поймешь! Аксинья говорит:
— У меня душа гниет, Александр Григорич, и не пойму никак... Сомневаюсь...
— В хозяйстве непорядок?
— Да нет!..
— Бабушка, Фекла-то, должно, стерва? К; — И она ничо. Другое.
— Пошто, а?
— Болит, места нету... Не найду... Курчавый ухмыльнулся и ногой пошевелил.
— Это бывает... Тело...
Пошло у него лицо ходуном. Руки затряслись, помо-кровели губы.
Положил руку свою к ней на колени. Обратно взять сил нет...
...А потом так же, как и Петр, брызгая слюной, давил и мял ее тело. И так же, как Петр, откинулся прочь, потно задышал в небо.
...Сорвала Аксинья пучочек травки и легонько на глаза ему положила.
Горячий у ней голос — радость тушит его,— ничего не выскажешь.
— Трава-то, вишь... сохнет... милай!
Курчавый утомленно повернул лицо набок и сронил траву.
— Листопад, потому оно и... сохнет.
Вздохнула Аксинья, глянула из лога вверх, по скату. Травы вновь по-весеннему подымаются, хоть опять коси. За небо березка уцепилась, дрожит.
— Уйдем мы, Санька, с тобой!.. . — Куды?
— Жадный народ, боюсь я!.. Душа у меня гниет... Не могу, уйдем... а ты добрый...
Поднялся курчавый, расставил ноги так же, как расставляет их Петр. Медленно опуская голову, сказал спокойно:
— Ты коли с мужика своего тоскуешь — плюнь. А бить будет, уйти от него завсегда можно, ноне закон легок. Ехать-то, конешно, можно, а куды?.. Некуда ехать, да!.. Да и хозяйство у меня.
Погладил шею, сплюнул:
— Ты вот у мужика спроси: у него на пригоне бревна валяются, не продаст ли?.. Рубить народу не найдешь, да нонче какой работник пошел, знаешь сама...
— Не пойму тебя я, Саныпа, шутишь? Рубить?
— Дом рубить буду!
И тут от слов тех опять накатилось под душу, затомило тело. Забилась опять внутри горящая береста — сердце. Вскрикнула, полоснулась душой она:
— А киргизы-то?.. Саньша!.. Киргизов-то кормил?
Захохотал курчавый.
— С киргизами-то, Аксинья, потеха-а!.. Дай, думаю, покормлю их всласть, наголодались. Взял у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай! И верна, ведь трое подохли... Обожрались, немаканые, а?.. Ловко я сыграл, а? — Заглянул ей в темный — как глубокий лог — глаз и ничего, не дрогнул.— Завтра у меня гости будут, воскресенье... Ты в понедельник сюда приди. Ладно? А с немакаными ловко!
Ушел курчавый.
...Ударилась Аксинья в землю, заголосила.
Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди...
А сумрак зеленый нашел лога. Убрал травы, тупо пахнувший боярышник и одинокую, хилую, заглодан-ную травами дорогу через лога, на юг...
1922
<<<---
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

