Александр Даниилович Шиндель родился в 1942 году. В 1964 году после окончания Московского государственного университета приехал на (Кольский полуостров. Работал корреспондентом газеты «Полярная правда», редактором Мурманской студии телевидения, а в последние годы — корреспондентом газеты Красноpнаменного Северного флота «На страже Заполярья». С 1968 года А. Д. Шиндель — член Союза журналистов СССР. W За годы работы в Заполярье он много ездил по Северу. Принял участие в работе полярной экспедиции на Северном полюсе, о чем написал B сборнике репортажей, изданном в 1967 году Мурманским книжным издательством.
Журналист хорошо знает жизнь военных моряков — североморцев. Не раз он выходил в море на боевых кораблях, участвовал в океанских Исходах.
Очерки, репортажи и корреспонденции А. Д. Шинделя публиковались на страницах флотской и облатной газет.
Александр Шиндель
ОТКРЫТОЕ МОРЕ
I
Я стою высоко над причалом и слушаю микрофонные голоса. Голоса лишены эмоций, поэтому похожи один на другой. Стоило прозвучать команде: «Корабль к бою и походу изготовить!» — как вся эта грандиозная машина завелась с пол-оборота. Снимаемся со швартовых.
Осторожно, чтобы не помять берега, разворачиваемся посреди фиорда. Нам в кильватер выстраиваются юркие, как гномы, сторожевики. Целый выводок. Рядом с солидным мореходом они выглядят дошкольниками.
Сравнительно недавно на одном из них я выходил в море. Он мне совсем не показался малышом. Корабль как корабль, весьма приличных размеров. Вообще любой корабль, даже самый скромный, обладает свойством увеличиваться, едва оказываешься на борту. Но сейчас я смотрю на происходящее по меньшей мере с высоты четырехэтажного дома, и это не самая высокая точка, откуда я могу смотреть.
Золотой шар, краяmи касаясь береговых скал и воды, закупорил фиорд. Словно прожектор необычайной мощности, он слепит глаза. За бортом — тусклое расплавленное золото, совсем такое же, как в старых цветных фильмах. Бесшумно сопротивляясь, оно поддается, опасно обволакивая корпус корабля. Вязкие золотистые лучи находят малышей, спрятавшихся у нас за кормой, и малыши, как завороженные, замедляют ход. Восхищенный матрос-сигнальщик не бережет глаза: загипнотизированно он смотрит вперед. На мостике
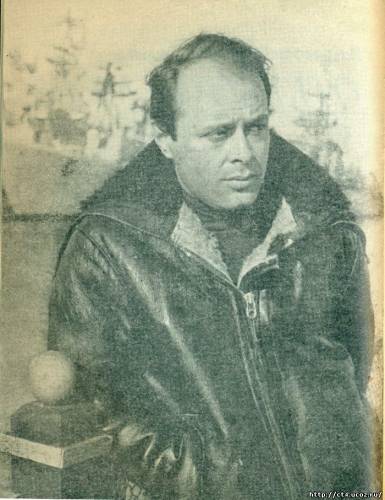
Александр Шиндель. Краснознаменный Северный флот. 1970 год. (Фото В. Теселкина)
157
незаметно появляются люди. Кажется, корабль, никем не управляемый, продолжает двигаться совершенно самостоятельно: еще совсем немного, и он подойдет вплотную, уткнется острым носом в ослепительную податливую мякоть, и пылающий шар рухнет на мостик, на надстройки и растечется по палубам и бортам обжигающей лавой...
Очарование исчезает, как только одна-единственная туча накрывает корабль. Впереди небо чистое, но она выбирает тот кусок, что у нас над головой. Свет сразу меркнет, мрачнеют скалы, вода становится унылой. Все вокруг чувствуют, как неуютно стоять на ветру, на открытом мостике, и быстро расходятся. Только сигнальщик, которому невозможно уйти, с нескрываемым раздражением смотрит на тучу, а затем, изумленный, подставляет ладонь: как пушинки из продырявленного матраса, из тучи вываливаются снежинки, настолько редкие, что впору усомниться, снег ли.
— Вот, — говорит матрос, обращаясь к своему старшине. Тот хотел было уйти в тепло, но задержался дольше других. — Вот: июнь, называется... В Италии если в январе снег — стихийное бедствие. А тут — июнь... — многозначительно повторяет сигнальщик.
— Ну, ты-то не итальянец?
Почувствовав заинтересованность в голосе старшины, озябший матрос улыбнулся:
— Нет, я из-под Костромы.
— Тогда все в порядке...
Старшина ухмыльнулся и скрылся за железной дверью. Сигнальщик не обиделся, только разочарованно вздохнул. Свои четыре часа он должен отстоять без перекуров, даже если над его головой соберутся все снежные тучи Заполярья. Он был совсем еще молодой сигнальщик и в поход шел впервые.
Я знал другого сигнальщика, Женю Бочарова, который умел замечать все, что положено замечать сигналь-
158
щику; но вместе с тем трудно было найти на корабле в эти часы человека, который был бы так погружен в свои мысли. Утомительное одиночество ночных вахт он умел заполнять бесхитростными рассуждениями о причинах и следствиях всего сущего, а строгие корабельные расписания приучили его не искать общения ни с кем в эти часы. Я часами торчал на мостике по ночам, слушал безупречные доклады Бочарова, иногда просил у него бинокль, и он мне его молча давал на несколько минут, впрочем, без особого удовольствия. Так продолжалось довольно долго. Мы пересекали моря одно за другим, передо мной был безупречный сигнальщик, и я стал подозревать, что задуманный — и, главное, обещанный — репортаж о военной и вместе с тем, как я считал, самой романтической специальности — мои грезы и не более. Между тем, собираясь написать такой репортаж, я, собственно, ставил контрольный опыт. Исходил из того, что человек, которому исполнилось восемнадцать-девятнадцать лет и который по роду своей профессии часами должен созерцать бесконечное водное пространство, да еще и в ночные вахты, наверняка развивает в себе обостренное видение мира, образное мышление, способность делать логические умозаключения. И вот, пожалуйста. Ничего подобного...
Все же Женя, видимо, привык к тому, что в промозглые холодные ночи я торчу с ним на его правом крыле мостика совершенно без всякой пользы для себя. Потому что в эти вахты (на кораблях их называют «собаками») на мостике торчит только тот, кому нельзя не торчать.
Мы подходили к одному из узких проливов. После нескольких суток непрекращающегося осеннего шторма стояла чудесная лунная ночь, корабль покачивало на некрупной глянцевой зыби, по правому борту, как светящиеся елочные фонарики, прыгали на волнах огни,
159
словно в этой точке моря отражались все звезды Вселенной.
Женя всмотрелся в этот праздник огней и доложил, что по правому борту около сорока рыбацких судов. Одно из них было дальше других, почти под горизонтом, и его огни то вспыхивали, то исчезали совсем, и тогда мне казалось, что это глаза от напряжения'уже подводят меня. Но Женя невозмутимо объяснил:
— Рыбак. Заваливается на волне. Скорее всего — норвежский.
Последние слова услышал командир. Он подошел к нам незаметно и, вероятно, так же как и мы, с удовольствием вдыхал освобожденный от дождя воздух и рассматривал интернациональный рыбацкий карнавал.
— Норвежский... — задумчиво повторил капитан второго ранга, глядя в бинокль на пляшущий огонек.
Женя распрямился и почтительно молчал.
Командир внезапно улыбнулся во тьме.
— Они и капитана с бородой увидеть могут... — он кивком указал на сигнальщика. — А что на сейнер похож — пожалуй, верно... Сейчас в узкость войдем, — сказал он Бочарову, — чаще докладывайте.
И так же бесшумно ушел.
Женя несколько минут внимательно осматривал горизонт, потом вдруг сказал:
— Как вы думаете, если сделать точкой опоры вот эту звезду, — я машинально отыскал звезду, на которую он мне указал, — рычаг протянуть до ковша, можно перевернуть Землю мускульным усилием?
У меня отвисла челюсть.
— Архимед все искал точку опоры, — говорил Женя. — Мы так думаем, что искал, потому что сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Но ведь не собирался же он переворачивать на самом деле! Наверное, Архимед понимал, что нельзя найти точку опоры в том, что надо перевернуть. А вообще для Земли
160
такая точка должна быть во Вселенной. Архимед уже тогда мыслил космическими, по-нашему, понятиями, если он понимал, что решение задачи надо искать вне Земли. Но это было, когда для человека Земля, по сути, представляла Вселенную.
Я не помню, что я тогда ему отвечал. Я думал о том, что этот молчаливый парень, знающий силуэты многих кораблей мира, потихоньку играет звездами, Землей, океанами, лунным светом и временем, как волшебной лампой... Я ждал этого, и все-таки это меня поразило.
Позже я понял, что никакой игры в этом не было. Бочарова — военного моряка, сигнальщика, профессионала из профессионалов — тянуло к вечной изначальной позиции дилетанта, с которой начинается путь к познанию.
Репортаж я тогда не написал. Было в этом что-то более серьезное, чем тема для репортажа. Женя Бочаров пришел на сигнальный мостик ракетоносца с маленького мурманского рыболовного траулера, где плавал просто матросом. Наверное, нет более трудной и менее романтической работы, чем плавать матросом на траулере.
Ушел Женя с ракетоносца любителем беспредельных просторов и неторопливых размышлений.
Через некоторое время после наших совместных вахт ракетоносец стал на ремонт, и Женя подал рапорт с просьбой списать его на другой корабль, который готовился к длительному океанскому плаванию. Просьбу удовлетворили. Бочаров ушел в тропические моря, заняв привычное место на правом крыле сигнального мостика.
К тому времени он уже много видел со своего крыла; парню же, который сейчас с изумлением рассматривал редкие снежинки, предстояло еще учиться смотреть...
Берега скоро не стало видно. Это произошло довольно быстро. Когда современный военный корабль
161
стремится уйти от берега подальше, ему для этого не нужно много времени. Берега потерялись * но море по-прежнему оставалось безупречно гладким. В такой штиль мне всегда кажется, что собственная тяжесть мешает морю поднять волну. И что эту тяжесть ему никогда не преодолеть: оно в плену у своей силы. Но во время штормов эта мысль мне ни разу не приходила в голову, хотя я не прочь был бы найти для себя что-нибудь утешительное.
Думать о море можно без конца. Но самая бесполезная затея — подсматривать за ним с тайным желанием перенести увиденное на бумагу. Я не знаю человека, которому бы это удалось. Автору «Фрегата „Паллады"», например, впечатлений хватило на целую книгу. Но в той книге не наберется и десятка страниц с описанием моря. Однажды в шторм Гончарову показалось, что волны похожи на грызущихся зверей. Писатель зафиксировал это наблюдение, но через много месяцев, когда ему снова захотелось описать буйство океана, вызвавшее у него чувство восторга, он смог лишь подтвердить свое прежнее наблюдение и другого образа не нашел.
Море никогда не бывает статичным, а статичность лежит в основе созерцания. Поэтому она неизбежно появляется в тексте при любой попытке описать увиденное. Море, застывшее на открытке, — не море; море, застывшее в описании, — тоже не море. И все же почти никто не ушел от искушения попробовать свою силу на этой сверхзадаче. Большего успеха добивался тот, кто, пренебрегая извечным очарованием движения, обращался в этот момент внутрь себя.
«Полгода в открытом море! Да, да, читатель, вообрази: полгода не видеть суши, гоняясь за кашалотами под палящими лучами экваториального солнца по широко катящимся валам Тихого океана — только небо вверху, только море и волны внизу, и больше ничегошеньки, ничего!» — так начинал Герман Мелвил, один
162
из самых «морских» писателей мира, свою книгу «Тай-пи». Можно подумать, что эти строки просто не поместились в «Моби Дике» и потому попали в «Тайпи». Впрочем, не в том дело, откуда эти строки. Разве найдете вы здесь описание океана? Нет. Но вы почувствуете состояние души, доступное тому, кто оставил берег. Эта отрешенность от всего — когда «только небо вверху, только море и волны внизу, и больше ничегошеньки, ничего!» — эта иллюзорная явь первозданности мира, в котором человек слаб и всемогущ, свободен и жалок, — пьянит и меня. Ко мне возвращается давно умершая в человеке двадцатого века способность созерцать мир глазами матроса с китобойной шхуны. Стоя на мостике, меньше всего видишь, что у тебя под ногами, но зато хорошо видно все, что вокруг. А вокруг море. Оно то же самое. Оно не увеличилось и не уменьшилось ни на метр. И в нем еще хватает места для кашалотов.
Я хорошо знаю, сколько дней у меня в запасе. Земля очень неторопливо прокручивалась под килем гончаровского фрегата. С той же неторопливостью она скользила под китобойными шхунами Мелвила. И даже морские волки Джека Лондона еще не знали настоящего вращения...
Я же это вращение ощущаю как на карусели. То, на что раньше уходили месяцы, преодолевается в течение дней; недели сжались в часы. Когда идешь вдоль континента, не успеваешь привыкать к очертаниям материков.
Поэтому я торчу на мостике корабля, нимало не смущаясь тем, что мой вид отнюдь не прибавляет ему воинственности. По этой же причине я не чувствую себя неловко, глядя в глаза старпома, который полагает, что искать на мостике отличников боевой и политической подготовки по меньшей мере нецелесообразно.
В ходовой рубке командир нашего маленького отряда заканчивает инструктаж. Одна из наших учебных задач — соблюдать скрытность плавания.
163
Задача трудная: есть авиация, радиолокация — не девятнадцатый же век в самом деле! Еще недавно перед человеком стояла обратная задача: уметь найти корабль в океане, когда надо. Теперь — суметь затеряться...
Мы идем не на полгода, не в Тихий океан и не за кашалотами. Мы уходим не на рассвете, а на закате. Наконец, мы идем не на паруснике, который десятибалльная волна может превратить в щепы.
Но я все-таки думаю о Белом ките, а не о том, что у меня под ногами. Непроизвольно думаю о том, что уже затерялась земля, не зная, затерялись ли мы сами или нет. Думать в океане о том, что планета стала мала, трудно. И я даю себе удовольствие размышлять о самом удивительном и благородном свойстве океана — возвышать человека своей силой и щедростью.
Теперь все дело за кашалотами. Из-за них я пошел в море. Скажи я об этом сутки назад — вместо меня послали бы другого товарища. Но я предусмотрительно молчал. И теперь вот надеюсь увидеть кашалота.
Микрофонные трели автоматными очередями прошивают корабль:
— Зенитному дивизиону — учебно-боевая тревога!
Бегу к зенитчикам.
Белый кит летит в тартарары.
Гоняться за Белым китом — невозвратимая роскошь отрочества, чистая работа.
Мы не занимаемся чистой работой.
Мы не трогаем китов.
Мы — истребители подводных лодок.
II
Уже полдня мы, словно задавшись целью осуществить мечту последнего поколения романтиков, гонимся за туманом. Туман отходит от берегов, и мы забираем-
164
ся все мористее, все дальше и дальше от побережья, от всяческих судоходных трасс, которые выверены вековым опытом всех моряков мира. Наконец мы добиваемся своего. Мгла окутывает корабль. Это туман.
Сначала я вижу, как он одного за другим заглатывает корабли охранения, потом размывает очертания нашего корабля. В тумане расплываются надстройки, железо становится влажным, сырость проникает под куртку. Появился вахтенный штурман, с удовлетворением отметил, что «в воздухе висит радикулит», и скрылся.
Штурман гордился туманом как делом своих рук. Он оказался удачливым, заведя корабль в этот «радикулитный» район, и по этому случаю пребывал в отличном настроении. Впрочем, с приходом в этот район настроение повысилось у всех без исключения. Теперь полдня по меньшей мере мы можем продвигаться под прикрытием тумана, а если повезет — то целые сутки. Видимость — несколько десятков метров. Если что и можно увидеть в эти часы, то не на мостике. Надо быть возле радиолокационных или акустических станций.
Я начинаю спускаться. Этот процесс, как и восхождение, пока он не стал привычен, доставляет мне удовольствие. Дома я на такую высоту поднимаюсь на лифте. Я отлично понимаю, что подобное наблюдение, высказанное вслух, вызвало бы улыбку у любого человека на корабле, но мое сознание, адаптированное городской жизнью, фиксирует лазанье по трапам как физическое упражнение.
Я уж было достиг палубы, когда до моих ушей донесся отрывок матросского разговора.
— ...Ну, а с утра?
— Как обычно. По утрам они нас приветствовали.
— А мы?
— На приветствие мы всегда отвечаем приветствием.
— А дальше?
165...
<<<---
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

