Раздел ХРК-370
Яков Петрович Полонский
ПРОЗА
Сост., вступ. ст., примеч. Э. А. Полоцкой
Художник М. 3. Ш л о с б е р г
-М.: Сов. Россия, 1988.-496 с.
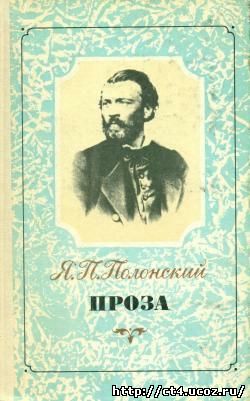 
Аннотация
В творчестве Якова Петровича Полонского (1819—1898) значительное мес то занимает ироза. Из немалого прозаического наследия Полонского в книгу вошли грузинские очерки, написанные по впечатлениям от службы молодого Полонского в Закавказье, рассказы 50— 60-х годов, а также воспоминания о дет стве, школьных и университетских годах поэта. Особую ценность представляет впервые после смерти Полонского публикуемый полностью большой мемуарный очерк о последнем пребываиии на родине И С. Тургенева, с которым поэта свяаы вала многолетняя тесная дружба.
Содержание
Три главы из прозы Полонского. Э. Полоцкая
ГРУЗИНСКИЕ ОЧЕРКИ
Делибаштала. Грузинская сказка (Из путевых записок 1847 г.)
Квартира в татарском квартале
Тифлисские сакли
РАССКАЗЫ
Статуя Весны
Груня
Женитьба Атуева
ВОСПОМИНАНИЯ
Старина и мое детство.
Школьные годы (Начало грамотности и гимназия)
Мои студенческие воспоминания
И.С.Тургенев у себя в его последний приезд на родину
Примечания
ТРИ ГЛАВЫ ИЗ ПРОЗЫ ПОЛОНСКОГО
Пожалуй, нет надобности представлять читателю поэта Якова Петровича Полонского (1819 — 1898): несколькими изданиями избранных его сочинений (в основном поэзии, но — впервые за долгие годы — и прозы) в последние десять лет творчество Полонского стало известно широкой публике. Поэт, отнесенный академической наукой к рангу второстепенных, но безусловно достигший совершенства в двадцати — тридцати стихотворениях (пусть из огромного наследия) и во всяком случае не писавший неискренних, надуманных, совершенно лишенных поэтичности произведений, поэт, полюбившийся таким чутким к русскому стиху композиторам, как А. Даргомыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гречанинов, А. Рубинштейн, С. Танеев, и вызывавший уважение у Белинского и Добролюбова, любовь у Некрасова и Тургенева, Бунина и Блока,— такой поэт не требует теперь уже особой «рекомендации».
Но жанровый диапазон творчества Полонского, очень широкий, известен пока мало. Полонский писал лирические стихотворения и поэмы, очерки, рассказы и повести, романы в прозе и стихах, публицистику (по поводу философской проповеди позднего Толстого) и литературно-критические статьи ( о поэзии Л. Мея, А. К. Жемчужникова, о творчестве Д. Писарева), воспоминания и даже либретто для оперы (на гоголевский сюжет под названием «Кузнец Вакула»), и др. Всю свою долгую жизнь он искал все новые формы выражения для художественных замыслов. Разобраться в этом огромном наследии Полонского и оценить по заслугам каждый его раздел еще предстоит. Заранее можно сказать, что, каковы бы ни были результаты этого аналитического обзора, поэзия, разумеется, останется по-прежнему высшим достижением Полонского-писателя, — непосредственное читательское восприятие точно. Одно перечисление названий и начальных строк стихо-
3
творений Полонского способно вызвать в нас воспоминание о прекрасных, неповторимых впечатлениях нашей памяти и нашего музыкального слуха: «Вызов» («За окном в тени мелькает...»), «Затворница» («В одной знакомой улице...»), «Качка в бурю» («Гром и шум. Корабль качает...»), «Колокольчик» («Улеглася метелица... путь озарен...»), «В глуши» («Для кого расцвела? для кого развилась...»), «Для немногих» («Мне не дал бог бича сатиры...»), «Поцелуй» («И рассудок, и сердце, и память губя...»), «Последний вздох» («Поцелуй меня...»), «Узница» («Что мне она! — не жена, не любовница...») и т. д. Симптоматично самое начало творчества Полонского (при всей вторичности его поэтических мотивов, часто восходящих к Лермонтову). «Священный благовест торжественно звучит //Во храмах фимиам,— во храмах песнопенье...» — такими стихами начинать может только истинный поэт.
Подобных откликов проза поэта в нашей душе не вызывает. Даже при его жизни повествовательные произведения Полонского не слишком интересовали критиков. Отзывы Добролюбова, Тургенева, довольно лаконичные, и еще несколько высказываний — вот и вся прижизненная критика о прозе поэта. Автор некролога Полонского, помянувший добрым словом его лирические стихотворения, лишь мельком указал несколько рассказов и повестей (Исторический вестник. 1898. № 11). Желая как бы восстановить несправедливость, критик, скрывшийся под инициалами А. Э., выступил в «Вестнике Европы» (1900. № 4) с «литературным очерком» о прозе Полонского: обильные выписки из рассказов и романа «Признания Сергея Чалыгина» были призваны популяризировать прозу Полонского. Но это был голос случайного заступника. В книге, составленной В. Покровским: «Я. П. Полонский. Его жизнь и сочинения» (М., 1906) и состоящей только из критических статей, ни одна не посвящена прозаическим произведениям писателя. В «Истории русской литературы XIX века» под редакцией Д. Н. Овсянико-Кулнковского (М., 1909. Т. III) раздел о Полонском освещает только его стихотворное творчество (упоминается и пьеса «Разлад», но в другом разделе — в общем обзоре литературы шестидесятых годов).
Только академическая десятитомная «История русской литературы» (Т. 8. Ч. 2. М.; JI.; 1956 — автор главы В. И. Орлов) впервые удостоила внимания прозу Полонского.
В единственной до сих пор монографии о жизни и творчестве поэта — книге Г1. А. Орлова «Я. П. Полонский» (Рязань, 1961) широко цитируются статьи и воспоминания поэта, но художественная его проза не упоминается, если не считать нескольких отрывков мемуарного характера из романа «Дешевый город». После смерти поэта его проза — и исключительно проза — в нашей книге собрана впервые.
Проза Полонского обширна: свыше семи томов в его десятитомном
4
полном собрании сочинений 1885—1886 годов и, не считая статей, еще два тома «Повестей и рассказов», изданных в качестве прибавления к этому собранию (1895). И хотя в целом произведения Полонского-прозаика написаны прекрасным литературным языком, они далеко не равноценны: в них есть и длинноты, и повторения, встречаются и не очень значительные но смыслу сюжеты.
По есть в обширном наследии Полонского-прозаика очень искренне написанные очерки, повести, рассказы, правдивые и честные воспоминания, на которых лежит печать его индивидуальности, его души, его особой, пристальной наблюдательности — зоркого взгляда поэта и художника (а Полонский был художником и в буквальном смысле слова). Для нашего издания мы выбрали три раздела прозы Полонского. Каждый из них представляет собой некое единство тематики и стиля. Это три маленькие главы из прозы поэта, пленяющие «необщим» выражением своего поэтического лица.
Первая глава — цикл очерков, созданных Полонским под впечатлением его пребывания в Грузии в 1846 — 1851 годах, преимущественно тогда же и напечатанный. Вторая — более поздняя но времени создания проза — рассказы и повести 1850— 1860-х годов. Это по жанру психологическая проза, в ней поэт обращается то к переживаниям детства, то к личной драме современного человека.
Эти две главы, как мы увидим, дают представление о свойственной Полонскому манере изображать человека как бы вдвинутым в орнамент восточного быта (в грузинских очерках), или проникнутым ароматом детского восприятия жизни (в рассказах «Статуя Весны», «Груня»), или включенным в контекст культурной жизни Петербурга, с ее политическими спорами и модными литературными течениями (в «Женитьбе Атуева»),
Наконец, третья глава — воспоминания; содержание — от самых ранних впечатлений «бытия» поэта до одного из интереснейших эпизодов его поздней жизни — летних месяцев 1881 года, проведенных в гостях у И. С. Тургенева в его имении Спасское-Лутовиново.
1
Проза Полонского родилась в Грузии. Красота края, которой он любовался не только как поэт («Прогулка по Тифлису», «Грузинка», Грузинская ночь» и др.), Но и как этнограф, исследователь местной действительности, дала ему и повествовательные сюжеты.
Как очутился Полонский, уроженец Рязани, воспитанник Московского университета, в Грузии?
Дорога в Тифлис пролегла для Полонского через Одессу, где он
5
оказался неожиданно для самого себя, едва окончив юридический факультет, не успев даже получить диплома.
К этому времени в Рязани у Полонского давно уже не было родительского крова: мать умерла, когда ему было 10 лет, отец, служивший в Рязани интендантским чиновником, бросил после смерти жены насиженное место и уехал на новую службу в Эривань. Никто не ждал Полонского по окончании университета в Рязани, никто не предлагал ему службу в Москве и тем более в Петербурге. И московский товарищ, сын декабриста М. Ф. Орлова, в доме которого часто собиралась университетская молодежь,— Николай Орлов звал Полонского в Одессу. Зная его необеспеченность и неуменье устроиться в жизни, Николай Орлов соблазнял Полонского тем, что в Одессе жнть и «дешево», и «приятно». Пожив недолго в Одессе, так и не сумев воспользоваться благами «дешевого» города и продолжая, как это было и в Москве, заниматься репетиторством в семьях богатых людей, самой унизительной и неприбыльной профессией, какая выпадала на долю русского интеллигента,— Полонский уехал весной 1846 года в Тифлис. Здесь, наконец, он устроился более или менее сносно — сначала помощником столоначальника, потом, с сентября 1849 года, чиновником особых поручений в канцелярии наместника Кавказа М. С. Воронцова, того самого, который в 1823 году был назначен в Одессу начальником нового края и взял к себе в подчиненные Пушкина.
Служба в канцелярии наместника была хлопотливой, требовала частых разъездов: Полонскому было поручено собирать статистические сведения. Зато эти поездки давали поэту возможность общаться с людьми разных сословий и наблюдать воочию обычаи незнакомого ему края. Он слушал с волнением тягучие напевы кавказских певцов, стараясь разгадать смысл незнакомых слов. Ему выпал случай услышать знаменитого азербайджанского (Полонский называет его персидским) певца Сатара, точнее Саттара, и выразить в стихах потрясение, которое он испытал от пения этого удивительного мастера («Сатар! Сатар! Твой плач гортанный...»). Он мог, забыв усталость, помчаться верхом за 20 верст от Тифлиса в местечко Марткони на праздник под Успенье, говоря: «Досадно пропустить случай видеть народный пир», и потом, может быть именно после этого пира,— написать стихотворение «После праздника» (1849),— описание веселья с «воем зурны и барабана» и сожаление о том, что «веселый пир народный // прошел, как сон...».
У Полонского в Тифлисе, кроме службы в канцелярии наместника, было еще одно занятие: он был помощником редактора газеты «Закавказский вестник», впоследствии известной под названием «Кавказ». Вместе с редактором «Закавказского вестника» историком-просветителем П. И. Иоселиани Полонскому удалось привлечь к работе в газете группу замечательных авторов разных наций. Он вообще обладал даром собирать единомышленников, сближать людей (что в конце жизни
6
вылилось в знаменитые « пятницы # Полонского в его петербургской квартире). В «Закавказском вестнике» при Полонском сотрудничали русские — художник Г. Г. Гагарин, писатель В. А. Соллогуб, грузины — Г. 3. Орбелиани, Г. Д. Эристави, армянин Хачатур Абовян, азербайджанец Мирза Фатали Ахундов (Ахундов был, кроме того, сослуживцем Полонского по канцелярии кавказского наместника), польский ссыльный Тадеуш Лада-Заблоцкий, ближайший друг Полонского по Тифлису.
В «Закавказском вестнике» Полонский публиковал материалы, собранные во время путешествий по краю. Увлекающийся всем, чем ему приходилось заниматься, он и в чиновничьей своей работе, такой скучной, казалось бы, для поэта-лирика, да еще не знающего местного языка, предпринял шаги к серьезным, полезным для истории Кавказа работам. В «Закавказском вестнике» он начал публиковать очерк «Тифлис на лицо и наизнанку» (1850. № 7), еще раньше в «Кавказском календаре» на 1847 и 1848 годы он печатал «Статистический очерк Тифлиса» и «Краткий очерк пекоторых городов Кавказа и Закавказского края» (факт, установленный И. С. Богомоловым в его книге: «Я. П. Полонский в Грузии». Тбилиси, 1966. С. 48—49).
Но все это были еще чисто этнографические работы. Одновременно Полонский пробовал свои силы в художественной прозе. В 1847 — 1848 годах он печатал, сначала анонимно, первые свои опыты в повествовательной форме. Это начало повести «Тифлисская ночь», с описанием прогулки двух приятелей, и рассказ «Два незнакомца — живой и мертвый», где кроме повествователя — два героя: русский «лишний человек» и грузин Луарсаб, человек из народа.
Тяга к художественной прозе, таким образом, родилась у Полонского из восхищения перед красотой Кавказа, из глубокого интереса к народам, населяющим его. Но впечатления от своего пребывания в Грузин он мог бы — и делал это с удовольствием! — передать в стихах. Была, видимо, какая-то еще, может быть, не совсем осознанная причина, клонившая Полонского к «суровой прозе». Не «лета», нет: ему не было еще и 30, и в отличие от Пушкина, остро ощущавшего в этом возрасте «грядущей смерти годовщину» и торопившегося многое успеть,— Полонский еще не испытывал тяжести лет, словно зная, что ему отпущено впереди не одно десятилетие...
Дело в том, что к пятилетию своей кавказской жизни (Полонский пробыл в Грузии до 1851 года) он подошел поэтом с уже определенной репутацией. Была похвала Белинского — за «Гаммы», было понимание друзей, но была и совсем свежая рана — от строгой фразы Белинского в отрицательной рецензии на второй поэтический сборник Полонского — «Стихотворения 1845 года»: «...г. Полонскому решительно не о чем писать, то есть нечего вкладывать в свой гладкий, а иногда и действительно поэтический стих...» «Не о чем писать»? - после
7
этих слов было естественно желание обновить тематику своей лирической поэзии кавказскими впечатлениями. II обращение к нелирическим жанрам было тоже естественно.
Интерес к истории Грузин вызвал к жизни трагедию Полонского «Дареджана имеретинская». Статистические исследования современной действительности воплотились в статьях этнографического характера. Материал, кропотливо собранный «статистиком», с обильными наблюдениями — ведь «статистик» был и поэт, и художник, владевший кистью и карандашом с юности,— огромный этот материал просился в неспешное повествование — художественную прозу.
Несколько слов о рисунках Полонского этого времени. Грузинские сюжеты Полонского, проиллюстрированные его собственными рисунками,— такой книги поэт не догадался издать при своей жизни. А жаль: рисунки не только бы украсили книгу, но сделали бы более точным и наглядным наше представление о местах, где происходит действие в произведениях. Перед нами дом, крутая лестница, одинокое дерево, мальчик — какой незамысловатый по содержанию рисунок, но сколько в нем нежности, какая чистота линий!1 Это «Уголок старого Тифлиса». А вот «Сакля Авлабара». Авлабар — самый бедный район Тифлиса, здесь Полонский поселился поначалу, пока ему не представилась возможность перебраться в более обеспеченный район Сололаки; это основные места действия повести «Тифлисские сакли». Или «Караван-сарай в Тифлисе», «Душет» (Душет упоминается в «Делибаштале»). И наконец, рисунок, изображающий армянку по имени Софья Гулгаз. Ее образ, по-видимому, стоял перед глазами писателя, когда он описывал красоту восточной женщины — близкой к идеалу, возвышенной (Елена в «Квартире в татарском квартале») и более земной, противоречивой, способной и оступиться (Магдана в «Тифлисских саклях»). Из-за этой противоречивости Софьи Гулгаз, с которой Полонский познакомился в Сололаках (тогда предместье Тифлиса), его привязанность к этой красавице была недолгой, хотя и пылкой. Горечью полны строки, относящиеся к ней в двух стихотворениях: «Не жди» (1849) и «На пути из-за Кавказа» (1851). Недаром в двух больших «грузинских» произведениях Полонского описания местных обычаев и людей подчинены истории любви — любви без взаимности, без большой радости, без настоящего счастья.
В годы жизни на Кавказе Полонский успел написать и опубликовать только два «грузинских очерка» — так он назвал их на склоне лет, включая в состав полного собрания сочинений, которое издавала его деятельная вторая жена Жозефина Антоновна: «Делибаштала» и
1 За невозможностью познакомить читателя с рисунками в нашем издании отсылаем его к книге И. С. Вогомолова «И. П. Полонский в Грузни». Тбилиси, 1966, где они воспроизведены. (Ред.)
8
«Квартира в татарском квартале». Третий «грузинский очерк» — «Тифлисские сакли», в сущности, большая и драматическая по содержанию повесть, была опубликована позже.
Полонскому довелось стать первооткрывателем для нового времени поэзии великого армянского поэта XVIII века Саят-Новы, писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках. Еще до того, как его стихи были напечатаны впервые по сохранившимся рукописям на армянском языке (в 1852 году), Полонский держал в руках тетрадь Саят-Новы и загорелся желанием познакомить русских читателей с необыкновенной жизнью этого замечательного поэта. Такую возможность Полонскому дал известный армянский литератор М. Ахвертов. готовивший армянское издание. Очерк Полонского «Саят-Нова» был напечатан в приложении к газете «Кавказ» в начале 1851 года (Л» 1 и 2). «Бедный армянин по происхождению, ткач по ремеслу, сазандар, или певец по влечению души своей, гуляка в юности, отшельник в старости, наконец, христианин, с крестом в руках убитый врагами на пороге церкви — вот кто был Саят-Нова»,— писал Полонский и для наглядности привел построчный перевод нескольких стихотворений Саят-Новы и собственное стихотворение, написанное по мотивам армянского поэта (тоже под названием «Саят-Нова»).
2
В том же году Полонский уехал из Тифлиса. Повод для отъезда был связан с творческими планами. Полонский хотел поставить на сцепе свою историческую драму «Дареджана имеретинская», а разрешение иа постановку можно было получить только в Петербурге. Он взял отпуск и поехал в Петербург. Но время шло, отпуск давно кончился, а разрешения все не было. II как часто бывало в его жизни, планы Полонского круто переменились. По безденежью он выехать из Петербурга не смог — и решил остаться навсегда. Да и не очень-то, наверное, ему хотелось обратно в Тифлис. Тянуло уже к профессиональному труду писателя — без всякой службы и чиновничьих обязанностей. Кое-что ему и удалось. «Дареджана имеретинская» была пристроена с помощью главы «молодой редакции» «Москвитянина» Аполлона Григорьева и А. Н. Островского в этот журнал (опубликована в 1852 году). «Тифлисские сакли» были напечатаны в «Современнике» в 1853 году. Печатался тогда Полонский и в «Отечественных записках».
Казалось бы, мечта о постоянной литературной работе сбылась.
Но время для русского писателя было тогда суровым. В течение 18^8—1855 годов бесчинствовал так называемый бутурлинский комитет. напуганная европейской революцией 1848 года царская цензура охраняла идейную «чистоту» печатного слова.
9
Полонский с лихвой испытал на себе цензурный гнет. Чистые побуждения шестилетнего Илюши, любовавшегося античной головой гипсовой статуи в рассказе «Статуя Весны», были расценены в оскорбительных для автора выражениях как свидетельство порочности его малолетнего героя. С какой-то тупой логикой цензор и в рассказе «Груня» отмечал, например, упоминания губернской школы, которую читатель мог принять за упоминание гимназии, — а гимназию по цензурным правилам в печати называть было запрещено. В столкновении с бессмысленными правилами и запретами хрупкая натура Полонского еле выстояла. После одной из встреч с цензором, вспоминал он, ему так и хотелось броситься в Мойку.
Рассказы «Статуя Весны» и «Груня» были опубликованы позже, в самом конце 1850-х годов, когда в нредреформенной обстановке цензурный гнет несколько ослабел. Л пока, чтобы как-то свести концы с концами, Полонский снова стал на путь малоприятный, но более надежный, чем литературный заработок: он поступил на службу канцелярским чиновником при с.-петербургском гражданском губернаторе Н. М. Смирнове (муже известной в литературных кругах А. О. Смирновой-Россет). И прирабатывал при этом гувернерством в доме своего начальника.. К гувернерской работе — так уж сложилось — Полонский прибегал и позже (например, в 1870 году), а вот служебную лямку — на разных постах — поэт тянул до конца жизни.
В 1869 году Полонский напечатал большую повесть «Женитьба Атуева», произведение, в котором он дал, наконец, волю своим литературным взглядам, не опасаясь цензуры. Впрочем, его взгляды никогда не были столь уж радикальными. С желанием всех примирить, с редкой щедростью на дружбу с людьми самых различных общественных вкусов и симпатий Полонский оказывался часто между двумя борющимися сторонами. Его демократические идеалы были искренни и несомненны, но политические и философские понятия — несколько туманны. Он не чувствовал себя полностью своим ни в одном из лагерей в годы столкновения революционеров-демократов с либералами, пытался как-то «лавировать» между ними, в частности между Тургеневым, с одной стороны, а с другой — Некрасовым, опубликовавшим у себя в «Отечественных записках» резко отрицательную анонимную рецензию на первые два тома сочинений Полонского. Автором этого отзыва был М. Е. Салтыков-Щедрин. «Лавировать» в этой обстановке было трудно. Тем более достойно уважения объективное отношение Полонского к такому «больному» для революционной демократии вопросу, как споры вокруг «нигилизма» — понятия, введенного в обнход автором романа «Отцы и дети».
Повесть «Женитьба Атуева» посвящена судьбе «нигилизма» как особой манеры мышления и поведения, навеянной чрезмерно усердным, но поверхностным штудированием молодыми людьми романа Черны-
10
шевского «Что делать?» н внешним подражанием его героям. Вместе с тем автор показал в повести и истинного представителя революционно-демократических взглядов — и показал сочувственно (друг главного героя, «нигилиста» Атуева,— доктор Тертиев).
Если в «грузинских очерках» сильной стороной Полонского-прозаика были описания — чаще бытописание и правоописание, реже пейзаж, то рассказы и повести 1850—1860-х годов богаты психологическими наблюдениями и характеристиками. По тому как автор «Женитьбы Атуева» улавливает все переливы и капризы растущего любовного чувства, как точно изображает мучительное чувство ревности, он может считаться учеником Тургенева и Гончарова.
Высшее достижение прозы Полонского — его рассказы о детях. Образ ребенка, восьмилетнего н четырнадцатилетнего, со всеми тайными движениями души, с тяготением к прекрасному, с безотчетным желанием любви, с нетерпимостью к злу и фальши — в центре обоих рассказов, которые печатаются в настоящей книге: об Илюше, разбившем статую, и о подростке, пережившем драму первой любви,— в «Груне».
И в этих рассказах сохранен столь любимый Полонским колорит бытописания, внимание к неповторимым мелочам интерьера, но все описанное здесь пропущено сквозь восприятие ребенка, и это придает рассказам особую прелесть.
Поздний вечер. Илюша лежит на кожаном диванчике в гостиной, думает о своем, делает маленькие открытия. Вот «паук, едва заметный глазу, опускается с потолка на едва заметной, от малейшего дыхания колеблющейся паутине — открытие, потому что этот паук занимает его ребяческую голову точно так же, как астронома заняла бы новая планета...». Мир реальный преображается в его маленькой головке в мир волшебной сказки. Вот почему и случилась эта грустная история со статуей, в неподвижной улыбке которой при золотых солнечных лучах появилось «что-то неуловимо живое, как будто и в самом деле уста ее получили способность дышать с появлением весеннего солнца и весенней сырости».
И как поэтичны начала и особенно концы этих «детских» рассказов Полонского — словно стихотворения в прозе. После гибели статуи Илюша пережил горячку, чуть не умер, потом выздоровел, и автор кончает рассказ так: «Где-то теперь гуляет его фантазия? И что из него выйдет, когда он вырастет? Случайно ли остался он жив или судьба к чему-нибудь порядочному сберегла его? Бедный мальчик! Что, если когда-нибудь жизнь отмстит тебе за разбитую статую...»
Полонский-прозаик так же чуток к волнениям детской души, как и Полонский-поэт, автор стихотворения «Иная зима» (1859) и др.
В нашей второй «главе» прозы Полонского самое большое и значительное место мог бы занять роман «Признания Сергея Чалыгина»
11
(1807). Впервые после смерти Полонского он лишь недавно перепечатан во втором томе «Сочинений» Полонского (М.: Худож. лит., 1980). О» стоит того, чтобы сказать о нем подробнее.
Роман этот, названный Тургеневым шедевром Полонского, написан в форме исповеди героя, пережившего ребенком историческое событие 14 декабря 1825 года, с последующими страшными днями обысков и арестов. Чистота детского взгляда, которой проникнуто повествование в романе, придает ему поэтичность и отражает чистоту души самого автора — свойство, единодушно засвидетельствованное всеми современниками Полонского. Так была написана «Груня», так написаны и «Признания Сергея Чалыгина». Полонский завершил только первую часть романа, посвященную детским годам героя. Задумал же он четыре части, с описанием всей последующей многострадальной жизни Чалыгина. Сюжетным стержнем романа в дальнейшем должна была стать история с пропажей документов героя. Документы эти пропали в день ареста друга матери Сергея Чалыгина, участника декабристского движения. Чалыгин стал жертвой бессмысленности и бюрократического произвола политической системы России. Чтобы доказать «законность» своего происхождения, «десять лет Чалыгин борется с людьми николаевского времени, с бюрократией, с полицией, с своими страстями и, когда достигает признания прав своих, чувствует, что он уже устал для дела, что прошла его молодость, что нечего ожидать.
Что значит в России человек без документов, и как вся жизнь от них зависит — вот что хотел я показать.
И конец должен был быть такой же грустный, как начало романа, и заключать в себе грусть николаевского времени» — так разъяснял Полонский Тургеневу замысел несостоявшегося продолжения своего самого значительного эпического произведения.
Опубликованная часть романа «Признания Сергея Чалыгина» вызвала одобрение А. К. Толстого, И. А. Гончарова, но только в частных письмах к автору.
Критика обошла выход романа молчанием, пока в 1870 году не высказался о нем И. С. Тургенев — в статье, являющейся полемическим ответом на рецензию М. Е. Салтыкова-Щедрина на два первых тома сочинений Полонского. Тургенев написал свою статью в виде открытого «Письма к редактору С.-Петербургских ведомостей». Определив форму романа как «воспоминания детства», Тургенев находит возможным соноставнть его с автобиографической трилогией Льва Толстого: «Уступая известным «Воспоминаниям» (то есть «Детству», «Отрочеству» и «Юности».— Ред.) графа Л. Н. Толстого в изящной отделке деталей, в тонкости психологического анализа, «Признания Чалыгина» едва ли не превосходят их правдивой наивностью и верностью тона — и во всяком случае достойны занять место непосредственно вслед за ними. Интерес рассказа не ослабевает ни на минуту; выведен-
12
ные личности очерчены немногими, но сильными штрихами (особенно хорош декабрист, друг матери Чалыгина), и самый колорит эпохи (действие происходит около двадцатых годов текущего столетня) схвачен и передан живо и точно». И сам Салтыков-Щедрин, ответивший на эту оценку новой критикой произведений Полонского и обвинивший роман в отсутствии тенденциозности (а это значило, по его мнению, что произведение написано без «внутренней потребности духа»), отметил и «мягкость тона», и «привлекательность», даже «оригинальность» некоторых лиц.
3
Впервые в мемуарном жанре Полонский выступил в 1876 году — в коротком анекдотическом рассказе об оригинальной фигуре своего дяди А. Я. Кафтырева («Мой дядя и кое-что из его рассказов» — «Русский архив». 1876. № 1). Смерть Тургенева в 1883 году вызвала у поэта потребность снова обратиться к перу мемуариста, на этот раз — в серьезной и обстоятельной работе.
Дружба в течение 40 лет, постоянное участие Тургенева в личной и писательской судьбе Полонского... Потеря была тяжелой, незаменимой.
Когда на Полонского, счастливого влюбленного мужа (он женился в 1858 году на молоденькой дочери псаломщика русской церкви в Париже — Елене Устюжской), как шквал обрушились несчастья: смерть маленького сына Андрея, потом жены и в довершение хромота на всю жизнь из-за сломанной в эти страшные годы ноги,— Тургенев живо откликнулся на горе друга, звал его отдохнуть у себя в Спас-ском-Лутовннове и обратился со словами утешения: «Будь уверен, что никто не принимает живейшего участия в твоей судьбе, чем я. Будь здоров и не давай жизненной ноше раздавить тебя». В самое тяжкое для писательского самолюбия Полонского время, когда его произведения или не замечали вовсе, или писали об их «несамостоятельности», только Тургенев, прося Полонского «не терять присутствия духа», заявил о своей готовности выступить в печати с объективной оценкой его таланта — и выступил, как мы уже знаем, с «Письмом к редактору С.-Петербургских ведомостей». Тургенев нашел здесь точные слова о творческой индивидуальности Полонского. «Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную, смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной, честности и правдивости впечатлений».
Когда много лет спустя Полонскому негде было провести лето вместе с семьей — Жозефиной Антоновной и тремя детьми, Тургенев
13
пригласил их к себе в Спасское-Лутовиново, и они там жили все вместе летом 1881 года, а на следующее лето семья Полонских гостила у Тургенева и в отсутствие хозяина.
Живя у Тургенева и общаясь с ним ежедневно в течение целого лета, Полонский завел тетрадь, в которую записывал свои беседы с ним. Началось это случайно. «У себя в комнате нашел я пустую, непочатую тетрадку,— вспоминал он, — и, не надеясь на память, задумал иногда вносить в нее кое-какие заметки». Сначала эти заметки как будто не имели отношения к будущим воспоминаниям. «Я и не думал, что тетрадь эта вся будет наполнена чем-то вроде отрывочного дневника (по большей части без чисел), и что она-то именно и поможет мне написать эти воспоминания. (Но разве я мог знать, что переживу Тургенева!)». (Этот дневник хранится в ИРЛИ.)
Полонский понимал, конечно, цену каждому слову, сказанному Тургеневым. Запомнить такое количество имен, названий, афоризмов, монологов собеседника было просто невозможно. Не говоря уже о том, что Тургенев, бывало, одаривал Полонского и его детей своими художественными импровизациями — эпиграммами, сказками и т. д. Записи пригодились в конце 1883 года, когда Полонский решился писать воспоминания о Тургеневе. В 1884 году эти воспоминания под названием: «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» печатались в восьми номерах одного из самых популярных русских журналов того времени — «Нива». Это было самое значительное выступление в печати Полонского-мемуариста.
Даже в чрезвычайно богатой мемуарной литературе о Тургеневе воспоминания Полонского выделяются богатством фактического материала.
Тургенев, увиденный глазами Полонского в повседневной жизни — за утренним туалетом или прогулкой в лес; в минуты вспышки мнительности, страха смерти и увлечения детскими играми; придумывания вопросов, озадачивающих собеседника; брюзжащий на плохую погоду и охотно вспоминающий эпизоды из своего детства, жестокость матери,— предстает перед нами таким простым, живым человеком. Полонский-мемуарист не смотрит на Тургенева снизу вверх, его рассказ несуетлив и полон достоинства. И это — отражение не только его личности, прямой и чуждой подобострастия, это и результат сложившихся за многие годы отношений Тургенева к нему — как к близкому другу и товарищу. Воспоминания гостя Тургенева написаны так, что чувствуется, как уютно и свободно жилось всей его семье в чужом доме.
Для биографов Тургенева интересны рассказы Полонского о других гостях Спасского в 1881 году. 27 июня ночью приехал и жил до 2 июля писатель Д. В. Григорович. Он был в Спасском еще в 1855 году и сейчас не без удовольствия вспоминал, как тогда вместе с
14
В. II. Боткиным, А. В. Дружининым и самим Тургеневым они сочинили и разыграли фарс «Школа гостеприимства», вышучивавший некоторые слабости хозяина имения. Позже в «Литературных воспоминаниях», опубликованных в 1892 году, Д. В. Григорович упомянул этот второй свой приезд к Тургеневу: «Последний раз, летом в 1881 году, я застал у него семью Якова Петровича Полонского. Тургенев всегда особенно любил и ценил Я. П. Полонского; связь их была давнишняя, едва ли не с юности; он любил все, что было близко Полонскому, и радовался видеть его семью у себя дома. Я, с своей стороны, тоже радовался встрече, так как разделял к семье Полонского чувства Тургенева. Мы проводили время в беседах и прогулках. Иван Сергеевич был по-прежнему разговорчив, приветлив, часто шутил, но уже той веселости — той полной веселости, которая оживляла нас в старое время, я уже в нем не заметил. Время от времени в чертах его проявлялся плохо скрываемый оттенок меланхолического, как будто даже горького чувства». (О подобных настроениях пишет и Полонский.)
В ночь на 9 июля в Спасское приехал Лев Толстой. Появление его было внезапным, и Полонский приводит характерную для внешнего вида графа Толстого той поры деталь. Выйдя на шум, Полонский был удивлен: «Вижу — горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: это вы, Полонский? Тут только я признал в нем графа Л. Н. Толстого». И уже после совместной ночной беседы за самоваром Полонский замечает: «Я никогда, в молодые годы, не видел его таким мягким, внимательным и добрым, и, что всего непостижимее, таким уступчивым... Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью». Рассказ Полонского о посещении Толстым Тургенева, о тургеневских оценках творчества Толстого (особенно взволнованные слова, которые Тургенев произнес, прочитав гостям вслух отрывок из «Войны и мира»: «Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из европейских литератур») — все это много дает для уяснения нового этапа в сложных отношениях двух великих романистов, этапа, завершившегося замечательным предсмертным письмом Тургенева — с призывом к Толстому вернуться на путь художественного творчества.
Приезжала в Спасское актриса М. Г. Савина. Впоследствии М. Г. Савина, выразив в письме к театральному критику Ю. Д. Беляеву (1903) неудовольствие тем, что Полонский увековечил ее плаванье в Спасском пруду «нелепыми воспоминаниями», с своей стороны внесла несколько дополнений в рассказ мемуариста о ее посещении Тургенева. В частности, она называла в числе пропущенных Полонским эпизодов то, как накануне се отъезда Иван Сергеевич читал на балконе
15
«Песнь торжествующей любви» и «что сказал Полонский по окончании».
В то лето в Спасское-Лутовиново приезжали также известный переводчик П. В. Гербель, собиратель народных песен П. В. Шейн, князь А. А. Мещерский, оставивший воспоминания о последних часах умирающего в страданиях Тургенева. Была корреспондентка Тургенева и поклонница его творчества Л-ая, была и какая-то случайная гостья, надумавшая пойти в «нигилистки» и тщетно искавшая одобрения своему решению у Тургенева. Если добавить к этому рассказы самого Тургенева о людях, с которыми ему приходилось встречаться в разное время (с английским переводчиком и пропагандистом русской литературы У. Ролстоном, с историком Т. Карлейлем, с Г. Флобером, А. Доде, П. Мернме, с У. Теккереем и многими другими), то получится довольно внушительная картина международного литературного окружения Тургенева.
Небезынтересны воспоминания Полонского об отношениях Тургенева как помещика с крестьянами села Спасское. Были и недоразумения, и прямые конфликты, и курьезные случаи, но была и реальная помощь: Тургенев дарил целые участки земли с лесом, выдавал пепсин, заботился о крестьянской школе и подыскал для детишек хорошую учительницу, обязался оплачивать визиты к заболевшим крестьянам врача из Мценска и т. д. И все-таки нищета, болезни, невежество одолевали спасских крестьян — Полонский рисует безотрадную картину заброшенного имения, владелец которого не особенно баловал его своим присутствием.
Самое ценное в воспоминаниях Полонского — разумеется, разговоры с хозяином имения па литературные темы. В дурную погоду (то лето в Мценском уезде было дождливое, холодное) читали вслух, и Тургенев — с особой охотой. Звучали монологи Корнеля, Мольера, отрывки из произведений Толстого, самого Тургенева. Упоминалась «Антигона» Софокла, фантастика Свифта; в «Анне Карениной» Тургенев, при всей своей любви к Толстому-художнику, отмечал не удовлетворявшую его сюжетную линию Левина — Кити.
Записи, сделанные Полонским (а также — Григоровичем) под диктовку Тургенева, — единственный источник текста литературных эпиграмм, сочиненных Тургеневым в годы молодости, и это отмечено в академическом Полном собрании сочинений и писем Тургенева. Полонский записал и сказки, которые сочинил Тургенев для его детей,— «Капля жизни» и «Самознайка».
Полонский уделил также внимание реальным истокам произведений Тургенева, в частности, восходящих к детству писателя, проведенному в Спасском-Лутовинове («Три портрета», «Первая любовь» ).
На глазах Полонского Тургенев работал над «Стихотворениями
16
н прозе», переписывал их в «тетрадь с черным переплетом». Однажды Тургенев придумал грустную фантастическую миниатюру — разговор о жителях Земли, который ведут обитатели счастливой планеты, где все живут до 100 лет, где нет тирании, где почва всегда плодородна и рука божества ограждает население от бед. Приведя эту миниатюру, Полонский высказывает сожаление, что сочинитель не внес ее в состав «Стихотворений в прозе». Возможно, это и в самом деле сюжет неосуществленного «стихотворения в прозе» под названием «Планета» (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. М„ 1982. С. 448). Не исключено, что и «Капля жизни» была задумана как «стихотворение в прозе» «Капля» (там же). М. Г. Савина в названном выше письме тоже вспоминала, что Тургенев читал ей «стихотворение в прозе», не публиковавшееся им — о женщине, которой отдана жизнь и которая не проронит слезы, когда он умрет.
Среди приведенных Полонским тургеневских импровизаций, неосуществленных сюжетов, неопубликованных рассказов — история мужа, мучающегося призраком убитой им жены; эпизод с загадочным убийством кота в рассказе, имевшем уже и название — «Дикарка», в героине которой Тургенев хотел воплотить сильный и независимый девичий характер, и др. Тяга к фантастическим сюжетам и иррациональным ситуациям характеризует литературные вкусы Тургенева последнего периода.
Есть в высказываниях Тургенева, которые приводит Полонский, суждение о любви как об одной из самых сильных человеческих страстей, побеждающих эгоизм; есть важный для понимания эстетических воззрений Тургенева маленький абзац, в котором сформулированы принципы эстетики, впоследствии утвердившиеся в русском реализме с приходом в литературу Чехова: «Ничего нет страшнее, — говорил он однажды,— страшнее мысли, что ничего нет страшного, все обыкновенно. И это-то самое обыкновенное, самое ежедневное и есть самое страшное. Не привидение страшно, а страшно ничтожество нашей жизни...»
Поток литературных сюжетов и мыслей об искусстве, за которым еле поспевал усердный слушатель Тургенева (отдадим должное трудолюбию его, давшему обильную жатву), навел Полонского на мысль, что Россия потеряла со смертью Тургенева: «... будь здоров он и проживи еще хоть лет 10, русская публика прочла бы немало превосходных рассказов, вроде «Песнь торжествующей любви» или «Клара Ми-лич», а может быть, и дождалась бы нового общественного романа с новым нам современным героем. Иван Сергеевич думал все чаще и чаще, как бы ему опять водвориться в России...»
В самом начале осени 1881 года Полонский простился с Тургеневым, уезжавшим во Францию, как оказалось — навсегда. Последний обед в ресторане «Донон» был и последней литературной дружеской беседой, с чтением стихов, с разговором о европейских школах живописи и т. д.
17
А потом для Полонского и его семьи было еще одно лето в Спасском-Лутовинове, с прежними удобствами и уютом, но, как вспоминал он впоследствии, «недоставало только одного, что придавало этому Спасскому и жизнь, и смысл, и значение, — не было Ивана Сергеевича». В лето 1882 года Тургеневу было не до поездок: он уже болел тяжело и безнадежно. Но еще была переписка. Тургенев жадно ловил новости о российской жизни, о Спасском. Разбирал и развешивал у себя картины Полонского, сделанные в Спасском. Тем же летом с мыслью о Спасском простился в письме к Полонскому с родиной: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».
Но было еще одно — последпее из самых последних — общение Тургенева с Полонским, в духе его «таинственных повестей». Это было в августе 1883 года в Буживале, когда Тургенев метался в смертельном бреду. А. Ф. Онегин писал Полонскому из Франции об этих минутах: «С закрытыми глазами он наедине со мной, в Буживале, воображал, что едет с вами на телеге и спешит на пожар: «А какие мы с тобою молодцы, Яша! Церковь-то как горит! Скорее, скорее! Только бы напиться». Я поднес ему стакан воды, он жадно сделал несколько глотков, не открывая глаз.«Ну вот и отлично, Яша! Чудесная какая вода! Церковь-то, церковь-то как горит!» (цит. по кн.: Тхоржевский С. С. Портреты пером. М.: Книга, 1986. С. 326). Это чудилось Тургеневу потрясение, пережитое им во время пожара в Спасском, когда горел кабак и он обещал крестьянам построить часовенку. Полонский и об этом не забыл написать в своих воспоминаниях.
Воспоминания о своей собственной жизни Полонский начал как большое жизнеописание — подробно и последовательно, но остановился на 1840-х годах.
События жизни, охваченные в мемуарах Полонского, четко разделены на три десятилетия. «Старина и мое детство» — это рассказ о 1820-х годах, проведенных автором в Рязани, вплоть до начала обучения грамоте с домашним учителем. «Школьные годы (Начало грамотности и гимназия)» относятся к 1830-м годам, они тоже еще проходили в родительском доме. «Мои студенческие воспоминания» переносят нас в Москву, в среду вольнолюбивой университетской молодежи, еще связанной с декабристскими кругами, с кружком Стап-кевича и другими группами, близкими к Московскому университету 1840-х годов.
Писавшиеся в преклонные годы, воспоминания о детстве и гимназических годах вышли в свет в 1890 году, а об университетских годах — только в год смерти писателя, в 1898 году, и он не успел уви-
18
деть их напечатанными. Эти три работы Полонского не касаются «промежуточных» десятилетий его жизни. Знакомый с большинством русских писателей XIX века, пристрастившийся к творческой работе при Пушкине и Лермонтове, кончивший жизненный и литературный путь в эпоху молодых беллетристов 1880—1890-х годов, и сдруживший ся особенно с Чеховым, Полонский мог бы оставить мемуарные свидетельства обо всем золотом веке русской литературы. Но, поставив в каждой работе определенные хронологические границы своему повеет вованию, он строго их придерживался. Лишь попутно, вспоминая о системе преподавания в гимназиях 30-х годов, он приводит для сравнения новые принципы педагогики, более строгие, но менее эффективные для развития индивидуальных способностей учащихся, или — в воспоминаниях о Тургеневе — ссылается на несколько старых своих встреч. Это придает мемуарам Полонского цельность, они сосредоточены на предмете, указанном в заглавии, автор не любит «растекаться по древу».
Честпость мемуариста — великое и редкое достоинство. Полонский им обладает вполне. Замечательно в этом отношении предуведомление читателю, с которого он начинает свои самые ранние воспоминания — о младенческих годах. Писать о детстве вообще трудно, а с памятью Полонского, которая, как он предупреждает, не в ладу с хронологией и именами,— и подавно. «Но видно, нет худа без добра»,— говорит он и вспоминает тот трудный период в своей жизни, когда он, вернувшись с Кавказа в Петербург, столкнулся с бесчинствами цензуры пачала 1850-х годов и был вынужден выбирать самые безобидные литературные сюжеты. Выбрал он сюжеты из детской жизни. Правда, и это не помогло. «Статуя Веспы» и «Груня» в те годы, как уже говорилось, были запрещены. Но зато, пишет Полонский, «все эти неудачные попытки литературным трудом заработать себе кусок насущного хлеба помогли мне развить такую память по отношению к моему детству, что, мне кажется, я помню его лучше, то есть яснее и отчетливее, чем то, что было со мной на прошлой неделе». И, стараясь не приводить точных дат, чтобы не наделать ошибок и не сбить читателя с толку, Полонский писал свои воспоминания, доверяясь тому, что действительно сохранила его память, и ничего не выдумывая от себя. Впрочем, иногда и он не удерживался, чтобы не привести «точную» дату — и ошибался: так, встреча с В. Ф. Одоевским в 1858 году не могла быть «незадолго до его кончины», так как Одоевский умер в 1869 году.
Между тем память Полонского отличалась достоинством, о котором оп умолчал. Полонский действительно мог забыть пазвание, цифру, имя, дату. Он писал, к примеру, так: «Я родился в Рязани на Певческой улице, в доме какого-то соборного певчего Чернева (или Чернова?)», но «бабушкин сундучок с горбатой крышкой», обтянутый сафьяном и обитый железом (или жестью, добавляет оп для точности), с разными
19
свивальниками, одеялами, нагрудниками, атласными и с кружевами,— помнил в деталях. Как помнил с гимназических лет и «приятный тембр голоса» отца Стефана или «отвислые щеки», проворные ноги и серые глаза старого учителя рисования Босса. Память творческая, художественная «вывезла», и Полонский создал мемуары, передающие живые детали эпохи, быт и психологию людей 1820 — 1840-х годов.
В воспоминаниях Полонского, как и всякого писателя-мемуариста, есть указания на жизненные впечатления, давшие повод к созданию некоторых его литературных персонажен. Друг героя «Груни» мальчик Красильский, учитель Глаголевскнй в «Признаниях Сергея Чалыгина», сцена смерти матери в этом же романе, Камков из романа в стихах «Свежее преданье» — все это родилось, как видно из воспоминаний Полонского, из событий его собственной жизни.
Полонский не обольщался насчет своего места в истории русской литературы. Предлагая читателю сборник стихов и прозы под названием «Снопы» (1871), он писал: «Лвось когда-нибудь мужественная трудолюбивая критика выбьет из этих снопов цепом своим хоть одну горсть пригодных зерен и всыплет их на общую потребу в одну из наиболее скудных житниц нам родной литературы». И мы, не преувеличивая историко-литературной ценности прозы Полонского, все же надеемся, что знакомство с нею обогатит читателя, даст ему и возможность общения с прямой и честной, чистой и простодушной личностью автора, и художественное удовлетворение от хорошей, добротной русской прозы. Прав был и Тургенев, считавший, что Полонский «умеет так же хорошо писать прозой, как и стихами», и Чехов, которого при чтении рассказов и повестей Полонского не оставляла мысль, что «все большие русские стихотворцы прекрасно справляются с прозой».
Э. Полоцкая
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан