Раздел ХРК-059
Иван Алексеевич Бунин
РАССКАЗЫ
М., «Сов. Россия», 1978.
352 с. (Российские повести и рассказы)
Художник Ю. Ф. Алексеева 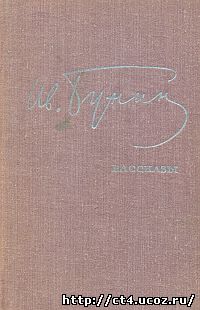
Книга прозы И. А. Бунина, «классика рубежа двух столетий.», как назвал его К. А. Федин, включает в себя рассказы разных лет, посвященные одной глубокой теме, имя которой — любовь. Один из немногих в русской литературе, Бунин мучительно и страстно размышлял о любви-страсти, подчиняющей человека своим загадочным силам. В этой области он, пожалуй, не имеет себе равных; его рассказы о любви—«Легкое дыхание», «Сны Чанга», «Грамматика любви», «Солнечный удар», «Темные аллеи» и др.—показывают «путешествие души», служат воспитанию чувств, обладают незаурядным эстетическим я нравственным содержанием.
Содержание:
Об Иване Бунине и этой книге. О. Михайлов
Велга
Без роду-племени
Осенью
Заря всю ночь
Маленький роман
Игнат
При дороге
Грамматика любви
Сын
Легкое дыхание
Сны Чанга
Солнечный удар
Темные аллеи
Кавказ
Баллада
Муза
Поздний час
Руся
Артигона
Волки
Визитные карточки
Таня
В Париже
Натали
Кума
Речной трактир
«Дубки»
«Мадрид»
Холодная осень
Пароход «Саратов»
Ворон
В одной знакомой улице
Месть
Чистый понедельник
Качели
Часовня
Весной, в Иудее
Ночлег
Три рубля
Мистраль
Если интересуемая информация не найдена, её можно
Заказать
***

ОБ ИВАНЕ БУНИНЕ И ЭТОЙ КНИГЕ
1
Творчество Ивана Алексеевича Бунина, его стихи, художественная проза, его переводы — все это ныне известно миллионам советских читателей. После выхода в свет капитального девятитомного Собрания бунинских сочинений, изданного двухсоттысячным тиражом, появилось два тома «Литературного наследства», посвященного Бунину, а также множество книг и статей о его жизни, судьбе, о его произведениях. По радио и телевидению, на театре широко передаются и ставятся инсценировки по его рассказам и стихам. Оказались напрасными опасения, которыми терзал себя стареющий писатель там, в далекой Франции: «будут... сохнуть на полках библиотек мои книжки...» Несмотря на то что последние три десятка лет своей долгой жизни Бунин провел в эмиграции, вдалеке от Родины, по которой жестоко тосковал и с которой оказался в непримиримом конфликте, все лучшее из созданного им было возвращено народу как значительная культурная, духовная ценность.
Личность Бунина, его характер, самоуверенный и цельный, отмечены непростотой, противоборствующими началами. «Талантливейший художник русский, прекрасный знаток души каждого слова,— писал близко знавший Бунина Горький,— он — сухой, «недобрый» человек, людей любит умом, к себе — до смешного бережлив. Цену себе знает, даже несколько преувеличивает себя в своих глазах, требовательно честолюбив, капризен в отношении близких ему, умеет жестоко пользоваться ими». И тот же Горький сказал: «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души...»
Дано ему было от природы, правда, очень и очень много.
В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» читаем: «...зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...»; «было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от сырой трапы». Остроумный, неистощимый на выдумку, он был столь одарен артистически, что Станиславский уговаривал его войти в труппу Художественного театра и сыграть роль Гамлета. О его феноменальной наблюдательности ходили легенды: всего три минуты понадобились ему, по свидетельству Горького, чтобы не только запомнить и описать внешность, костюм, приметы, вплоть до неправильного ногтя у незнакомца, но п определить его жизненное положение и профессию.
Талант его, огромный, бесспорный, был оценен современниками по достоинству не сразу, зато потом, с годами, все более упрочивался, утверждался в сознании читающей публики. Его уподобляли «матовому серебру», язык именовали «парчовым», а беспощадный психологический анализ — «ледяной бритвой». Чехов незадолго до смерти просил Телешова передать Бунину, что из него «большой писатель выйдет». Л. Толстой сказал о его изобразительном мастерстве: «Так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего». Горький назвал его «первейшим мастером в современной литературе русской».
Вместе с тем очень рано в даровании и творчестве Бунина проявились предпосылки того общественного консерватизма, который много позднее сказался при выборе писателем своего места в пору революционных потрясений и гражданской войны.
Он родился в помещичьей семье, в глубинной России, рос в ее плодородном орловском и елецком подстепье, и гордость за свою родословную, дворянский быт и культуру, специфическим уклад целого социального пласта, безвозвратно смытого временем в «летейски воды»,— все это повлияло на «жизненный состав» Бунина, сложной амальгамой осталось в его творчестве. Жизнь в скудеющем имении, поэтизация уходящего усадебного быта, дремлющие сословные традиции исторгали у него недвусмысленные признания, например, в письме любимой, Варе Пащенко (от 14 августа 1891 года): «У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному времени, но я даже невольно начинаю поэтизировать его... Право, я желал бы пожить прежним помещиком».
Однако бедность, стучавшаяся в родительскую усадьбу, заставила будущего автора «Деревни» близко познакомиться с радостями п печалями простого народа, девятнадцати лет покинуть родовое гнездо, по словам матери, «с одним крестом на груди», переменить множество профессий—корректора, библиотекаря, статистика, владельца книжной лавки — и наконец признаться, что он «вольнодумец», «вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате того, что было связано с ней». Такова природа бунинской социальной двойственности: одновременно в тяготение к дворянским традициям и отталкивание от них.
Пока он находился на родине, эта двойственность во многом определяла его своеобразие. Но в отрыве от живой русской действительности, в эмиграции чувство сословности вновь пробудилось.
2
Если в поэзии Бунина, выдержанной в традициях ее «серебряного века» (Тютчев, Майков, Фет, Полонский), центральное место занимает мир русской природы, ее отдельное, суверенное и красочное бытие, то дореволюционная проза посвящена прежде всего жизни старой деревни — от рассказов 90-х и начала 900-х годов о «мелкопоместных» («На хуторе», «Антоновские яблоки») и до таких, говоря словами Горького, «тузовых» вещей 910-х годов, как повесть «Деревня», «Захар Воробьев», «Веселый двор», «Игнат». Именно «Деревня» (равно как и «хроника» дворянской жизни «Суходол») выдвинула Бунина в первые ряды русских писателей-реалистов нового столетия.
Долгое время произведения эти воспринимались как глубоко обличительное, но одностороннее изображение дикой, косной деревни и ее нищих обитателей. Но так ли «обличительны» бунинские произведения в отношении к крестьянству? Не будет ли справедливее сказать, что в изображении самых темных, самых мрачных сторон русской действительности Бунин, во-первых, не делал различия между «мужиком» и «мелкопоместным», а во-вторых, сам воспринимал эти темные стороны с болью и состраданием, с гневом и жалостью, потому что видел все это в родном, отчем, «своем».
В одной из юношеских статей Бунин сделал характерное признание: «Все гениальные ее (деревни.— О. М.) представители — люди, крепко связанные с своею страною, с своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость». В такой оценке отразилась живая, некнижная связь «барчука» Бунина с деревенским бытом, трудом, досугом. По сути, он был ближе к крестьянству и лучше понимал его, чем иные народнические интеллигенты, один из которых, Скабичевский, возмутил Бунина своим равнодушным признанием, что «за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал».
Сам Бунин не только «видел», как растет рожь — он рос вместе с нею, «среди хлебов, подступавших к самым порогам». И это не могло не сказаться на всем строе произведений зрелого Бунина, посвященных деревне и крестьянству.
Тема Руси, России растет и ширится в произведениях 1910-х годов, являя нам ряд национальных типов, чисто русских характеров, таких, как красавица Молодая, древний годами Иванушка, грамотей и книгочей Балашкин, братья Тихон и Кузьма Красовы («Деревня»), кроткий батрак Аверкий («Худая трава»), исполин Захар Воробьев (одноименный рассказ), соединивший в себе трагическое и скоморошье начала ниший Шаша («Я все молчу») и т. д.
Если определить кратко отношение писателя к деревенской России, крестьянской и дворянской, то это будет сложное чувство «любви-ненависти». Конечно, Бунин не мог осмыслить происходящее с позиции передовых идей своего времени. Но, поэтизируя старую Русь, он одновременно заявляет о своей ненависти к темному и дикому и о любви к родному, издревле идущему, прорывающемуся через все социальные невзгоды.
В течение 1910-х годов Бунин продолжает осваивать новые обширные жизненные пласты под углом той же, исторически взятой темы России. Беседуя с корреспондентом газеты «Московская весть» в сентябре 1911 года, писатель сказал: «В моем новом произведении «Суходол» рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан «Деревни») представителя русского народа — дворяпства». Как и группирующиеся вокруг этой «поэмы» стихи («Пустошь») и рассказы («Последнее свидание», «Последний день», «Грамматика любви» и др.), «Суходол» показывает выморочную судьбу мелкопоместной массы дворянства — не культурных «верхов», не «усадеб Лариных и Лаврецких», а наинизших, близких деревне и мужику. Жизнь предков сохраняет былое очарование и влечет к себе Бунина, но иные, жесткие черты проступают на лицах фамильных портретов, до тех пор «кротко» (как в «Антоновских яблоках») глядевших на него со стены.
На изображении столь любезного Бунину «рыцарского сословия» резко сказывается усиление критической направленности его художественного мышления. Контрасты, свойственные, по мысли Бунина, крестьянской душе, в характере мелкопоместных еще более укрупнены, острее обозначены. Жалостливость и бесчеловечность, сословная спесь и патриархальная доверчивость, первобытный демократизм и свирепое самодурство грубым, отчетливым узором переплелись в обычаях и психологии хозяев Суходола. С Дворовыми целовались в губы, любили игру на балалайке и «простые» песни, а за стол садились с арапником...
В эту пору Бунин совершенствует свой реалистический метод. Более гибким становится его мастерство, новая, разнообразная тематика вторгается в его творчество: тут и удушливый быт мещанства («Чаша жизни»), и городское дно с кабаками и дешевыми нумерами, где бродит странный «выродок» Соколович («Петлистые уши»), тут и воздушный, очаровательный образ гимназистки Оли Мещерской, жизнь которой оказалась жизнью мотылька-однодневки («Легкое дыхание»), и портрет необыкновенно здравомыслящего, самодовольного немца, весь характер которого исчерпан на пяти страничках («Отто Штейн»).
Жизнь и смерть, их неотступное великое противостояние — источник постоянного трагизма для бунинских героев. Продолжая п развивая наблюдения, отображенные в произведениях 1890-х и начала 1900-х годов («Федосеевна», «Кастрюк», «В поле», «Мели-тон», «Сосны»), Бунин стремится разгадать «вечные», «неподвижные» приметы русского человека, исследуя изломы его души. За своими героями — разбогатевшим мещанином из крестьян или нищим юродивым — он видит как бы сонмы их предков, уходящую, обратную перспективу поколений. Самая благополучная с виду биография, оказывается, таит в себе катастрофичность, покоится над бездной.
В этих исканиях писателя глухим эхом отразились надвигавшиеся на Россию великие социальные потрясения и перемены.
3
Размышляя о России, как о стране крестьянской, таящей в себе взрывчатую силу «бунтов» и одновременно смиренную, Бунин стремился, заглянув в прошлое Руси, найти там разгадку ее будущего. Одновременно писатель напряженно размышляет над смыслом бытия, над причинами внезапного отказа своих героев от жизненных благ, от физических наслаждений, пытаясь найти объяснение этому в буддизме, философии Толстого.
Отсюда, с высоты «абсолютных» нравственных категорий рассматривает Бунин «обыденные» судьбы, пути людей, следовавших закону «земных рождений» («Господин из Сан-Франциско», «Братья», «Сны Чанга»), Он стремится не просто рассказать о тщетности «посюстороннего», земного счастья, о бремени страстей, о тленности всего человеческого — славы, богатства, власти, красоты, силы. В зрелом творчестве Бунина довольно легко выявить последовательную концепцию жизни, своего рода иерархию бытия, жесткую и где-то даже жестокую по отношению к человеку.
Счастье, по Бунину, достояние немногих, своего рода монополия избранных, у которых «порода» проявилась как физическая и духовная красота и сила. Это не обязательно «высокорожденные», о нет: все прекрасно в «простом» мужике Захаре Воробьеве, столько в нем телесного и душевного здоровья, нравственной чистоты и силы. И тут принципиальным, программным для Бунина может служить его поздний рассказ «Молодость и старость» (1936).
Притча о сотворении человека и определении сроков его жизни, которую рассказывает старый царственный курд глупому красавцу, керченскому греку, вновь возвращает нас к философским воззрениям Бунина на роль п назначение человека, отраженным, в частности, и в его трактате «Освобождение Толстого». К тридцати годам, дарованным ему богом, человек выпросил еще пятнадцать от осла, пятнадцать от собаки и пятнадцать от обезьяны. И вот: «Человек своп собственные тридцать лет прожил по-человечьи — ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна».
Итак, по Бунину, только человек, счастливо избавленный от необходимости стяжательства, корысти, счастливо наделенный телесным здоровьем, красотой, храбростью, так и остается, сверх положенных тридцати лет, человеком. Таков курдский вождь!
Человек и Захар Воробьев, а вот кулак Тихон Красов («Деревня»), всю жизнь потративший на бессмысленное стяжательство,— осел. В редкостную для него минуту размышлений, наедине с собой, он итожит: «Страм сказать!.. В Москве сроду не бывал! Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что—Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться по успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему...» Ослом и собакой был н господин из Сан-Франциско (одноименный рассказ), всю свою жизнь истративший на стяжательство, нещадно эксплуатируя своих рабов, не жался и себя. Он так и не захотел пли не смог стать человеком.
Сдвигая все сильнее, все контрастнее жизнь и смерть, радость и ужас, надежду и отчаяние, Бунин в своих произведениях являет нам, однако, не просто пессимизм, как то может показаться. «Обостренное чувство смерти», которое он находит у себя, прямо связывается им со «столь же обостренным чувством жизни». Слова эти взяты из крупнейшего произведения Бунина эмигрантской поры — романа «Жизнь Арсеньева», в котором смерть и забвение отступают перед силой любви, перед «чувством жизни» героя и автора.
Бунин оказался единственным писателем-эмигрантом, который хотя и понес творческий урон, но, преодолев кризис, продолжал в необычных, чрезвычайно неблагоприятных для любого писателя условиях совершенствовать свой художественный метод. Его реализм, даже оказавшись в суженных, стесненных берегах, открыл в себе новые возможности, результатом чего явились такие значительные произведения, как «Митина любовь», «Солнечный удар», роман «Жизнь Арсеньева», книга рассказов «Темные аллеи».
Свято храня в Душе Родину, Бунин не мог не остаться художником глубоко национальным, отличным от большинства писателей русского зарубежья, только тосковавших об утраченном или сменивших поэтическое стило на жало тенденциозного публициста. Как бы далеко от нее он ни жил, Россия была неотторжима от него. Однако это была отодвинутая Россия, не та, что раньше начиналась за окном, выходящим в сад; она была и словно не была, все в ней встало под вопрос и испытание. В ответ на боль и сомнение в образе отодвинутой России стало яснее проступать то русское, что не могло исчезнуть, что продолжало жить в новой реальности, а не только в душе художника.
Бунин стал видеть, ища надежды и опоры в отодвинутой им России, больше непрерывного и растущего, чем, может быть, раньше. когда оно казалось ему само собой разумеющимся и не нуждающимся в утверждении. Теперь, как бы освобожденные разлукой от застенчивости, у него вырвались слова, которые он раньше пе произносил, держал про себя,— и вылились они ровно, свободно и прозрачно.
Трудно представить себе, например, что-нибудь столь просветленное, как его «Косцы». Этот рассказ со взглядом издалека и на что-то само по себе будто и малозначительное: идут в березовом лесу пришлые на Орловщину рязанские косцы, косят и поют. Но опять-таки Бунину удалось разглядеть в одном моменте безмерное и далекое, со всей Россией связанное; небольшое пространство заполнилось, и получился не рассказ, а светлое озеро, какой-то Светлояр, в котором отражается великий град. Тем резче ложится траурная черта, повторяющая уже знакомые нам мотивы «конца», гибели России: «Отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись скатерти-самобранки, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению».
Но даже помимо этих прямолинейных выпадов, в самой бунинской мысли о России была ограниченность, ему самому незаметная, идущая от старосословных привязанностей, которым он мог крайне наивно отдаваться, едва увидев, что что-то готово их удовлетворить. Отсюда появлялось благостное умиление тем, чем умиляться бы писателю такого масштаба не стоило. Можно встретить, например, в рассказе «Божье древо» следующий разговор автора и караульщика:—
«— Так... надевай шапку-то.
— Ничего, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу и то не сравнял.
— А откуда ты и как величать тебя?
— Козловский однодворец. Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.
И все так ладно, бодро».
Но беда была в том, что читатель сразу улавливал, что это вовсе не так ладно. И когда Бунин дальше, уж совершенно растрогавшись писал: «В саду — радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе отого милого человека»,— даже из самого рассказа становилось видно, что этот милый человек от пего скрыт и своей видимой словоохотливостью, прибаутками специально для господ, может быть, лишь потворствует из удобства тем, кто хотел бы его таким видеть; а кто он такой и что себе думает — еще вопрос, который для автора, покоренного сдернутой шапкой, к сожалению, не решен. Поэтому между ними слышался уже не разговор, а исполнение в лицах: «Как величать тебя...»
Когда один крестьянин во время поездки Льва Толстого по голодным губерниям опустился перед ним на колени, Толстой сделал то же самое и произнес: «Ну, что же, если тебе так разговаривать удобнее...» — п человеческое общение живо восстановилось. У Бунина не было такой резкой способности взглянуть па себя со стороны; его прямой разговор с людьми неравного с ним положения, сохранившийся в прозе, напоминал больше при всем доброжелательстве и часто восхищении беседы Пьера с Каратаевым.
Для Бунина эти лица слишком часто являлись лишь подтверждением его душевных состояний. В этом подчиненном авторскому пристрастию виде они уже не выступали сами по себе, а являлись лишь иллюстрацией к его представлениям о судьбах «державы Российской». Персонажи послушно поворачивались к читателю той стороной, на которую автору хотелось указать, но именно из-за этой послушности становились все более иллюзорными и далекими от реальности. Старик Ефрем (рассказ «Обуза») и крестьяне, встреченные автором по дороге в «Несрочной весне», пли уже совсем непроницаемый, непостижимый для его представлений, подобный истукану, сторож-китаец из того же рассказа — в облике этих персонажей особенно давали о себе знать социальные расстояния, оставшиеся для Бунина и художественно и в жизни непреодолимыми. Он, разумеется, сознавал, что проблема значительно серьезней, но касался ее осторожно, предпочитая оставаться в рамках своих сословных привязанностей и подозревая, очевидно, что она может увести к совершенно иному объяснению того, что совершилось в России. Ему не хотелось принимать болезненных для него выводов, к которым пришла реальность.
4
Была, впрочем, одна тема, которой Бунин не только не опасался, но был предан всю свою творческую жизнь. Он был в полном смысле, как сказали бы сейчас, «завербован» ею — речь идет о любви.
Именно бунинские рассказы о любви и составляют настоящую книгу, в которую, как поймет читатель, вошло далеко не все, что написано художником на эту тему.
Здесь, в области, полной невыраженных оттенков и неясностей, его дар находил достойное себе применение. Он описывал любовь во всех состояниях — а в эмиграции еще пристальней, со-средоточенней,— умел найти ее даже там, где ее еще нет. в ожидании, как у той медицинской сестры в поезде («Сестрица»), у которой «тихо и греховно сияют иконописные черные глаза», и там, где она едва брезжит и никогда не сбудется («Старый порт») и где томится неузнанная («Ида»), и где кротко служит чему-то ей бесконечно чужому («Готами»), переходит в страсть («Кавказ») или в изумлении не обнаруживает своего прошлого, подвластного разрушительном} времени («В ночном море»). Все это схватывалось в новых, неведомых дотоле подробностях и становилось свежим, сегодняшним для любого времени.
Любовь в описании Бунина поражает не только силой художественной изобразительности, но и своей подчиненностью каким-то внутренним, неведомым человеку законам. Нечасто прорываются они на поверхность: большинство людей не испытывает их рокового воздействия до конца дней своих. Такое отношение к любви неожиданно придает трезвому, «беспощадному» бунинскому таланту романтический отсвет. Впрочем, эта неожиданность кажущаяся. Ничего не прощавший своим героям — малейшей пошлости, слабости, даже физического несовершенства, Бунин уже силой внутренней логики должен был выйти к рубежам «идеального», беспримесного чувства, достояния немногих. А остальные люди? «Беспощаден кто-то к человеку!» — восклицает он, с убийственным хладнокровием рассказывая о свидании горбуна с горбуньей («Роман горбуна»).
Будничность, в понимании Бунина, та же горбатость, уродливость, антикрасота. Понимание любви как страсти, захватывающей все помыслы человека, все его потенции, духовные и физические, было свойственно ему на протяжении всего творчества, и в этом смысле рассказ 1909 года «Маленький роман» принципиально не отличается от позднейшего «Солнечного удара» (1925). Чтобы любовь не исчерпала себя, не выдохлась, необходимо расстаться— и навсегда. Если этого не делают сами герои, в ход вмешивается судьба, рок, можно сказать, во спасение чувства убивающей кого-то из возлюбленных.
Необычайная сила н искренность чувства свойственны героям бунинских рассказов. Разве в «Солнечном ударе» пересказан заурядный адюльтер? «Даю вам честное слово,— говорит она поручику,— что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...»
Бунин не собирается оправдывать какими-то высокими словами чувственный порыв своего поручика, напротив, он даже подчеркивает сугубую «скромность» его исходных желаний. Однако постепенно—и как бы против волн героев — они вступают в заколдованный мир совершенно новых отношений, которые действуют на них сильно и больно, и тем больнее, чем яснее мысль, что все кончено, что они расстались — и навсегда. Дорожное приключение перерастает в редкостную и благородную ошеломленность души, потрясение, которое силой слова передается и читателю. Трудно отыскать рассказ, который в столь сжатой форме и с такой силой передавал бы драму человека, познавшего вдруг подлинную, слишком сильную и счастливую любовь; счастливую настолько, что, продлись близость с этой маленькой женщиной еще один день (она знает это), и любовь, осветившая всю их серую жизнь, тотчас бы покинула их, перестала быть «солнечным ударом».
Перечитывая Мопассана, Бунин заметил в дневнике 3 августа 1917 года: «Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины». Натура эмоциональная, страстная, Бунин пережил за свою долгую жизнь несколько глубоких, подлинно драматических потрясений. Можно сказать, что четыре музы сопровождали его, вдохновляли, мучили или давали огромную радость и возбуждали жажду творчества. Или, лучше сказать, то были четыре типа женщины, вобравших в себе каждая как бы свою, особенную эпоху: Варвара Пащенко, Анна Цакни, Вера Николаевна Муромцева-Бунина, наконец, Галина Кузнецова.
Юношеская, сильная и трагическая любовь, отразившаяся светло и одухотворенно в пятой книге «Жизни Арсеньева» («Лика»), питалась впечатлениями давнего чувства к Варваре Пащенко, женщине сильной, решительной, пошедшей наперекор родительской воле и общественному мнению. Вот она в пенсне и украинской вышитой кофточке сидит рядом с юным Буниным па фотографии 1892 года и кажется куда «взрослее» его. Есть в ней нечто от женщин-«шестидесятниц», с их жаждой эмансипации, просвещения, с их презрением к условностям «мещан».
Юношей Бунин был глубоко, без остатка захвачен любовью к Пащенко. Разумеется, было бы наивно видеть в Лике портрет Пащенко, но автобиографическая основа бунинского романа, страниц, посвященных любви Алексея Арсеньева и Лики, была столь несомненной для близких Бунина, что он незадолго до своей кончины полушутя сказал одному журналисту: «Вот я скоро умру... и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново «Жизнь Арсеньева»...»
В самом деле, в своей книге «Жизнь Бунина» В. Н. Муромцева не раз подчеркивает ошибочность взгляда на роман как на автобиографию «Особенно изменена книга пятая в «Жизни Арсеньева»... Героиня романа Лика — тоже не В. В. Пащенко, как по внешности, так и по душевным качествам». Так самый близкий и верный друг Бунина — его жена Вера Николаевна спорила не только с упрощенным толкованием «Жизни Арсеньева», но и самым бунинским чувством.
Можно подумать, то Анна Николаевна Цакни не могла оставить сколько-нибудь глубокого следа в бунинской душе. С фотографии 1898 года смотрит обращенная в профиль совсем иная, чем Варвара Пащенко, женщина — черты правильные и чуть тяжеловатые, любительница шумных компаний, музыкальных вечеров, на которых бывала «вся» артистическая Одесса (в том числе и начинавший тогда певец Морфесси и юный Корней Чуковский), истинная дама «fin du siecle» («конца века»). Что у нее могло быть общего с Буниным? «Мне самому трогательно вспомнить,— исповедовался он брату Юлию,—сколько раз я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности — ничего не чувствует — это осиновый кол какой-то... ни одного моего слова, ни одного моего мнения ни о чем —она не ставит даже в трынку». Но вот когда этот заведомо неудачный брак распался, как, оказывается, мучился Бунин, как тяжко страдал от чувства утраты! «Ты не поверишь,— писал он тому же Юлию в конце 1899 года,— если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя... Описывать свои страдания отказываюсь, да и не к чему. Но я погиб — это факт совершившийся... Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может быть, не переживал ни один человек... Подумай обо мне и помни, что умираю, что я гибну — неотразимо... Как я люблю ее, тебе не представить... Дороже у меня нет никого». Напомню, что строки эти принадлежат не романтическому юноше, но тридцатилетнему мужчине со сложившимся характером, с определившейся писательской судьбой.
Счастливой звездой Бунина, его добрым опекуном и спутницей жизни стала Вера Николаевна Муромцева, спокойная, заботливая, быть может, чуть холодноватая, сдержанная, выросшая в московской профессорской, дворянской семье. Она непрестанным и ровным уютом окружила мужа, сделавшись в конце концов необходимой до незаметности.
Была еще одна, четвертая муза Бунина, принадлежавшая всем своим физическим и духовным складом к новому уже, XX веку, — писательница Галина Кузнецова, спортивная, с особенным очарованием чуть курносого большеглазого лица.
Четыре музы — четыре эпохи. Впрочем, сам Бунин как-то признался, что его идеальным типом женщины был совсем другой, не совпадающий с его музами,— «смуглый, худой, азиатский». Это тот самый тип, который он вывел в рассказе «Руся». Тайное тайных самого художника, то, что он не решался высказывать раньше, сделать достоянием той литературы, теперь вышло, обнаружилось, обретя и новые формы выражения.
«Всякая любовь — великое счастье, даже если она не разделена»,— эти слова из сборника «Темные аллеи» (1946) могли бы повторить все «герои-любовники» у Бунина. При огромном разнообразии индивидуальностей, социального положения и т. п. они живут в ожидании любви, ищут ее и чаще всего, опаленные ею, гибнут. Такая концепция сформировалась в творчестве Бунина в предреволюционное десятилетие. Любовь-страсть приводит человека на опасную черту, независимо от того, кто перед нами — элегантный, в белоснежном костюме и накрахмаленном белье капитан из «Снов Чанга», легко цитирующий индусских мудрецов, пли корявый мужичонка Игнат, не имеющий даже добрых сапог (одноименный рассказ); «редкий умница» помещик Хвощинский («Грамматика любви») или девятнадцатилетний Эмиль Дю-Бюи, игравший в декадентство и сам ставший жертвой вызванных им неведомых сил («Сын»).
В нашей отечественной литературе до Бунина, пожалуй, не было писателя, в творчестве которого мотивы любви, страсти, чувства — во всех его оттенках и переходах — играли бы столь значительную роль.
Бунин не знает, кажется, себе равных в этой таинственной области. Причем любовь ровная, тихое горение, безбурное счастье, равно как и драма рассредоточенная, растворенная в обыденности (пример — «Дама с собачкой»), высокомерно отвергаются героями и автором. Любовь — «легкое дыхание», посетившее сей мир и готовое в любой миг исчезнуть; она является лишь в «минуты роковые». Писатель отказывает ей в способности длиться — в семье, в браке, в буднях. Короткая, ослепительная вспышка, до дна озаряющая души влюбленных, приводит их к критической грани, за которой- гибель, самоубийство, небытие, как у Тютчева:
Союз их кровный, но случайный
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.
И кто в избытке ощущений.
Когда кипит и стынет кровь.
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!
Как и у Тютчева, близость любви и смерти, их сопряженность Бунину представлялась частным проявлением общей катастрофичности бытия. Издавна близкие ему темы (вспомним «Маленький роман», «Сны Чанга», «Легкое дыхание» и т. п.) наполнились новым. грозным содержанием. Это не просто рок (наподобие античного), написанный «на роду» героям,—гибель и крушение не вытекают из любви, вторгаются извне и независимо от нее. Это скорее судьба. Здесь проявляется бунинское представление о непрочности всего того, что доселе казалось утвердившимся, незыблемым, и в конечном счете звучит, отраженно и опосредствованно, эхо великих социальных потрясений, которые принос человечеству новый, XX век.
Понятно, речь идет но о прямых намеках и ссылках на отгремевшие события, даже если происшедшее ставит предел мечтаниям иных бунинских героев. (Так, в рассказе «Таня» барчук Петруша обещает деревенской девчушке вернуться к ней летом и не выполняет обещания: «Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни»). Общественные катаклизмы ломают судьбы героев столь же неожиданно, как и смерть от чахотки девушки-гимназистки («Три рубля») или кончина генерала в метро («В Париже»). Написанные в эмигрантском «далеко», рассказы не могли иметь «счастливые» завершения.
В бунинских рассказах о любви мы встретим и грубоватую чувственность («Антигона»), и просто мастерски рассказанный игривый анекдот («Сто рупии»), по сквозным лучом проходит через них тема чистого и прекрасного чувства. Правда, взятые сами по себе, некоторые эпизоды могут дать повод для упрека автора в излишнем «эротизме». Предвидя это, Бунин вложил в уста одного из своих героев размышления о «женах человеческих, сеть прельщения человеком». «Эта «сеть»,— говорит герой,— нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном» («Генрих»).
В бездымном, чистом пламени высокой любви не просто поэтизируются «стыдные» подробности — без них сокращено, урезано путешествие души, громадность ее взлета. Именно сплав откровенно чувственного и идеального создает художественное впечатление; дух проникается плотью и облагораживает ее. Это, с точки зрения Бунина, и есть философия любви в подлинном смысле слова. Романтика ощущений и осторожный натурализм подробностей уравновешивают друг друга. Влечение к женщине, по Бунину, всегда чувственно и таит в себе загадку, тайну. В немом изумлении останавливается художник перед тайной женской натуры, которую природа одарила так щедро и которая зачастую и не знает, что ей делать, как распорядиться этим бесценным даром, «...ведь это даже как бы и не люди,— с обнаженной резкостью размышляет он о женщинах,— а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них». Бунин стремится проникнуть в самую суть женской природы, по замутненной ничем «посторонним», рассказывает Галине Кузнецовой, «что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей «утробной сущности», и именно это он имел в виду в рассказе «Легкое дыхание»: «Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти и есть «легкое дыхание», недуманье».
В своих художественных исканиях он подходит, кажется, к опасной черте, за которой возникает уже модернизм, с его стремлением (как хорошо сказал Фолкнер) писать «пе о человеческой душе, а о волнениях тела». Но пока Бунин не переступает эту черту, реализм от этого только выигрывает.
5
Бунин замыкает своим творчеством целую традицию в русском классическом реализме; он «последний» в ряду великих и как последний несет в себе уже и черты ограниченности, русского «флоберианства», консерватизма стиля, утрату той магии доступности, какой обладал в избытке его великий современник Чехов. Однако в рассказах о любви (как, впрочем, п во всем творчестве Бунина) мы встретим лучшие черты, присущие русской литературе XIX века,— способность к активному состраданию (возьмите хотя бы рассказ «Мадрид»), гимн светоносному, окрыляющему человека чувству («Солнечный удар», «Руся»), протест против всего, уродующего любовь, мешающего ей («Темные аллеи», где «простая» хозяйка постоялого двора одерживает нравственный верх над старым генералом, когда-то любившим и забывшим ее).
Созданные много лет назад и посвященные судьбам давно отживших людей, эти рассказы и посейчас волнуют, трогают, побуждают к сочувствию. Потому что предметом их, говоря словами самого Бунина, является «вечная, вовеки одинаковая любовь мужчины и женщины, ребенка и матери, вечпые печали и радости человека, тайна его рождения, существования и смерти».
Олег Михайлов
* * * |
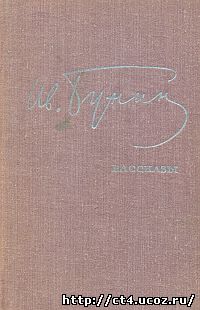

 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

