Раздел ХРК-649
Юрий Тынянов
СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА
Роман
Послесловие В. Каверина
— М.: Худож. лит., 1988.—447 с. (Классики и современники. Сов. лит.)
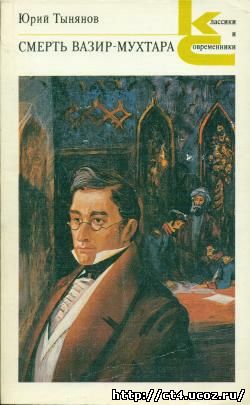
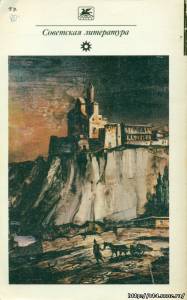
Аннотация-Роман известного советского литературоведа и писатели Ю. Н. Тынянова (1894—1943) «Смерть Вазир-Мухтара», впервые опубликованный в 1927—1928 гг.,— о великом русском писателе и государственном деятеле, дипломате А.С.Грибоедове (1795—1829). В романе изображен последний год жизни создателя «Горя от ума», его трагическая гибель в Персии, куда он был назначен послом.
Содержание:
СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
В. Каверин. Философский роман
ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН
Кажется, нет ничего труднее, как писать о музыке. Она может затронуть или взволновать сердце, но найти верные, точные, метко попадающие в цель слова почти невозможно. Так же трудно или еще труднее писать о романе «Смерть Вазир-Мухтара». Он написан, как пишется тематическая симфония, в которой новое слово сказал Шуман, сделав опыт слияния всех ее частей в одно целое. Сравнивая роман Тынянова с музыкальным произведением, можно пойти еще дальше. В этой самой обширной форме оркестровой музыки существует так называемый симфония-концерт, в котором один инструмент имеет преобладающее значение.
Именно такое значение имеет в романе Грибоедов — все рондо, скерцо и менуэты связаны с ним и призваны выразить его отношение к себе, к государству, к друзьям и врагам.
Сразу можно сказать, что среди мотивов, сложно сплетающихся в романе, два основных выделяются и как бы держат всю композицию, придавая ей гармоническую форму. Мотив неудачи в литературе и мотив неудачи в жизни.
За день до гибели Грибоедов разговаривает со своей совестью. Он оправдывается: «...ведь у меня в словесности большой неуспех». Этот неуспех —«Горе от ума», естественно и неразрывно вошедшее в разговорный русский язык, переведенное на множество иностранных языков, поставленное бесчисленное множество раз на мировой сцене, более ста пятидесяти лет украшающее репертуар русского театра, с необычайной выразительностью отразившее десятые и двадцатые годы.
«Горе от ума» упоминается и цитируется в романе восемнадцать раз. На восточном экзамене Сенковский льстит Грибоедову, цитируя «Горе от ума», чтобы показать тесную связь Грибоедова с декабристами, оно горьким упреком звучит в устах полковника Бурцова, и разговор едва не доходит до дуэли, его поносит Сипягин за небрежное отношение к гвардии, его вспоминает Грибоедов в полубреду развивающейся болезни. «Горе от ума» — призма, через которую на Грибоедова смотрят друзья и враги. Оно всегда с ним, оно преследует его, оно — мишень для одних, подвиг для других, измена для третьих. Оно повод для клеветы, приводящей к доносу. Через девять лет в статье «Сюжет «Горя от ума»
1 Тынянов показал решающее значение этой линии пьесы.
2 Литературное наследство, № 47-48, с. 147.
439
«Горе от ума»—это не только прошлое Грибоедова, но и его будущее («Тогда вдруг понял, что трудно будет ему жить без того, чтобы свое «Горе» не увидеть на петербургском театре»). Наконец, он сам пользуется словами из «Горя от ума» вместо шуточки в искательном письме генералу Паскевичу, своему родственнику и покровителю.
Как лирический, тайный мотив звучит в романе «Слово о полку Игореве». Оно приходит Грибоедову на помощь и в удаче, и в неудаче. Он сам хочет написать свое «Слово». Все поэтические отступления, когда Грибоедов остается с самим собой, связаны со «Словом». Поход в Персию — это поход Игоря в половецкие степи.
Из «Слова» — эпиграфы в начале и в середине романа. Главка сороковая во второй главе вся, начиная с эпиграфа, написана в манере «Слова». «Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню...»— эпиграф. И этими же словами начинается главка: «Встала обида. От Нессельрода, от мышьего государства... от молчания отечного монумента Крылова, от собственных бедных желтых листков, которым не ожить вовеки,— встала обида. Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою».
И в той же манере начинается глава десятая под эпиграфом «Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо, далече залетело» («О, дремота перед отсроченным отъездом... Из порожних тул поганых половцев сыплют на грудь крупный жемчуг, без конца... Ярославна плачет в городе Тебризе...»).
Игорь у половцев, в плену, из которого ему удастся убежать. Грибоедову некуда бежать. В «мышье государство» Родофиникиных и Нессельроде? Вот почему он мечтает уйти от света, уединившись с Ниной в каком-нибудь местечке под Цинандалом. То, что он скрывает в русской миссии бывшего сановника, евнуха Хаджи-Мир-зу-Якуба, оскопленного армянина,— случайность, которая оборачивается дипломатическим шагом. Но оборачивается не случайно. Шаг подготовлен.
Но не только «Горе от ума» и «Слово» полускрытые двигатели действия сложного романа. Другая глубоко значительная его черта — философский комментарий. За понятием «дипломат» идут размышления о дипломатии как общественно-политическом явлении. За понятием «измена» следует историко-филологическое объяснение этого слова. Понятию «любви» посвящена целая главка, казалось бы не имеющая отношения к героям романа. Даже дом (Ахвердовых) возводится в идею дома.
Так поступал Бальзак. Но его растянутые философские объяснения выливаются в целые трактаты, которые, пожалуй, трудно дочитать в наше время. А Тынянов прост, лаконичен, собран и меток.
Еще один мотив (я чуть не написал «мелодия»), которым проникнут роман,— ирония.
Сцена вручения трактата о Туркменчайском мире вся построена на иронии.
С иронией написан Николай с его «совершенными ляжками, обтянутыми белой лосиной», с иронией написан Нессельроде, Родо-финикин и, уж конечно, слуга Грибоедова, Сашка Грибов,— может быть, его молочный брат, над которым он поминутно смеется и которого нежно любит.
Но надо различать иронию Грибоедова и иронию автора, о которой еще пойдет речь. Ирония Грибоедова бесконечно разнообразна, ирония автора — сдержанна и лишь иногда окрашивает строгое объективное повествование. С доброй иронией написан Сашка, с
440
бесстрастной — маменька Настасья Федоровна, с саркастической — Паскевнч, с любовной — Катя Телешова, с хладнокровной — глупенькая Леночка Булгарина, с высокомерной — сам Булгарин, с язвительной — Нессельроде и Родофиникин, с нежной —«нелепая и сбродная» семья Ахвердовых, с ненавидящей — изменник Самсон-хан, с презрительной — выскочка Мальцов, со снисходительной — Ермолов.
Подчас голос автора сливается с голосом Грибоедова, и это слияние, когда личность или событие возводится в явление, не останавливает развития сюжета в книге, в которой почти за каждой фразой — мысль. И не притупляет чувств, которые вы испытываете, следя за трагическим путем Грибоедова. С первых страниц вы любите его. Зная о его безвременной гибели, вы заранее сочувствуете ему. Он ваш в любом эпизоде — и в том, как он защищает воришку, которого избивает толпа, и в том, что он не выдает персидского сановника. «Да мимо идет меня чаша». Вы любите его, когда он с трудом удерживается от обморока, видя Майбороду, предателя-декабриста. Вы любуетесь им, когда полномочный министр неожиданно застревает по дороге в Персию и несколько дней проводит в доме старика, который живет с дочерью Машей, молодой женщиной, приглянувшейся и Грибоедову, и его слуге Сашке. И это происходит, когда его ждут не дождутся на Кавказе и в Тегеране. «Но, стало быть, он беглец, в бегах, в нетях, он дезертёр? Ну и что же, беглец. Человек отдыхает». Впрочем, когда Маша уделяет ему такое же внимание, как Сашке, он решительно продолжает свой путь.
Все, что касается врагов Грибоедова, рассказывается от имени автора. Впрочем, у него нет ни врагов, ни друзей. Друзья — одни сосланы на каторгу, другие повешены, и об этом он не может, да и не хочет забыть. Он один из «превращаемых». «Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут»,— пишет Тынянов в предисловии к роману. Вся трагедия жизни Грибоедова — это борьба с «превращением». Недаром он задумал и пишет трагедию. Недаром «Горе от ума», которое написано декабристом, враги, да и он сам, пытаются «превратить» в бытовую остренькую комедию нравов.
Разумеется, не я первый пишу о его декабризме. Еще Гончаров в блестящей статье «Мильон терзаний» размышлял о свободной жизни, к которой рвется Чацкий, «провозвестник новой зари».
Как Чацкий, Грибоедов сдергивает маску с тех, перед которыми вынужден низкопоклонничать. Он ясно видит подоплеку их действий, их подозрений, их недоверия к нему. В Персию его не посылают, а ссылают. Он знает это и оттягивает всеми силами почетную ссылку.
Мне могут возразить. А разговор с либералистом — декабристом Бурцевым, разговор, который едва не кончается дуэлью? Нет, и в этом разговоре Грибоедов — декабрист. Он сомневается в легкости успеха, о котором мечтали декабристы,— и он прав. Он предлагает в своем проекте, отвергнутом Нессельроде и Родофиникиным, торговую компанию, независимую от «мышьего государства», компанию, которая выпишет из чужих краев рабочих и опытных мастеровых, а не крестьян российских, которых нагнали бы как скот, как преступников. Он мечтает о новом государстве в государстве, с правом построения крепостей, с правом объявлять войну, с правом дипломатических сношений с другими государствами. Декабристский ли это проект? Нет. Но это убедительная возможность будущего строя, при котором деньги не «плыли бы и плыли», как он возражает
441
Бурцеву, а обогащали бы государство. Это преображение Закавказья, разумное и многообещающее использование его богатств. Это новая Ост-Индия, могущественная политическая система, обогатившая Англию, с помощью торговли присоединившая к ней новые земли.
Проект отвергнут. Император и его ближайшие помощники стремятся возможно скорее отделаться от беспокойного чиновника. Он мыслит — следовательно, он опасен. На прощальной аудиенции о проекте — ни слова.
Неслыханное разнообразие мотивов; действия, происходящие одновременно в Петербурге, в Тегеране, в Тебризе, в чумных бараках под Гумри требуют моментального снимка, общего пробега, единого взгляда на всех действующих лиц. Тогда перед глазами возникает вся панорама романа.
«И он очнулся.
Стояла ночь. На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая, перепончатая ночь.
Нессельрод спал в своей постели, завернув, как голошеий петух, оголтелый клюв в одеяло.
Ровно дышал в тонком английском белье сухопарый Макдональд, обнимая упругую, как струна, супругу.
Усталая от прыжков, без мыслей, спала в Петербурге, раскинувшись, Катя.
Пушкин бодрыми маленькими шажками прыгал по кабинету, как обезьяна в пустыне, и присматривался к книгам на полке.
Храпел в Тифлисе, неподалеку, генерал Сипягин, свистя по-детски носом.
Чумные, выкатив глаза, задыхались в отравленных хижинах под Гумри.
И все были бездомны.
Не было власти на земле...
Потому что не было власти на земле и время сдвигалось.
Тогда-то Грибоедов завыл жалобно, как собака.
Тогда-то полномочный министр, облеченный властью, вцепился в белую, поросшую пушком, девичью руку, как будто в ней одной было спасение, как будто она одна, рука в пушке, могла все восстановить, спрятать, указать.
Как будто она была властью».
Когда Тынянов дописывал последние главы романа, он позвонил мне и сказал: «Его высокопревосходительство, полномочный министр Вазир-Мухтар скончался». Но ему предстояло написать еще одну большую главу. Русское правительство потребовало труп своего посла, и его никак не могли найти, раскопав ров, в который были свалены и зарыты тела отважных защитников русской миссии. Найдена была только рука с бриллиантовым перстнем, принадлежавшая или не принадлежавшая русскому полномочному послу. Шахский евнух Хосров-хан не может выполнить поручение, «...черные, полусгнившие тела... были выброшены... на поверхность рва, и они лежали рядом, похожие друг на друга». Старый армянский купец, видевший Грибоедова, выручает растерявшегося Хосров-хана: «Тебе поручил шах отыскать Грибоеда?— спросил он евнуха по-армянски.
И в первый раз прозвучало имя: Грибоед.
— Так, значит,— продолжал старый Аветис Кузинян,— дело не в человеке, а дело в имени.
Хосров-хан еще не понимал.
442
— Не все ли равно,— сказал тогда старик,— не все ли равно,' кто будет лежать здесь и кто там? Там должно лежать его имя, и ты возьми здесь то, что более всего подходит к этому имени. Этот однорукий,— он указал куда-то пальцем,— лучше всего сохранился, и его меньше всего били. Цвета его волос разобрать нельзя. Возьми его и прибавь руку с перстнем, и тогда у тебя получится Грибоед».
Понадобилось бы немало страниц, чтобы рассказать, какое праздничное настроение, какое торжество охватило Петербург в связи с приездом принца Хозрева-Мирзы, представителя страны, в которой озверевшая, дикая толпа растерзала русского представителя, дипломата и гениального писателя, растерзала так, что труп его так и не нашли. Правда, кровь его обошлась недешево. За кровь Грибоедова и защитников русской миссии Персия заплатила Алмаз-Шахом, одним из крупнейших алмазов в мире, размером 86 1/16 карат1. Хозрев-Мирза недурен собой и неглуп. Придворные дамы ласкают его и в переносном и в буквальном смысле. В честь принца даются балы, ему показывают Академию художеств, на обедах за него провозглашают тосты. Хозреву начинает казаться, что он победитель. Петербург торжествует.
Грибоедов забыт. Память его опозорена, и этого никто не замечает.
Разумеется, лейтмотивы «Горя от ума» и «Слова» не исчерпывают сложной фабулы «Смерти Вазир-Мухтара». Объединяющим фактором является авторский тон, история в собственном смысле этого слова. И он полон оттенков, но документ, как бы ни сомневался в нем Тынянов, ставит границу вымыслу и требует объективного изложения. Я уже упоминал о том, как выразителен документ, когда Тынянов пишет о врагах Грибоедова. Но история Персии, например, рассказана бесстрастно, без тени эмоций, так же, как исторический комментарий, посвященный дуэлям. Почти все, не касающееся непосредственно Грибоедова, изображено, если можно так выразиться, со скупой полнотой. Такова история гарема, такими представлены Макдональд-Макниль в английском посольстве, таков изменник Самсон-хан (основная глава о нем, кстати сказать, была написана, к моему изумлению, в один день) и такова, разумеется, последняя глава, посвященная приезду Хозрева-Мирзы в Петербург.
В «Кюхле» Грибоедов нарисован бегло. Но и этот беглый портрет останавливает внимание своим несходством с готовым, сложившимся еще в школьные годы представлением об авторе «Горя от ума». Откуда взялось это представление? Произошло ли оно от скучных предисловий к академическим изданиям «Горя от ума», авторы которых откровенно признавались, что «трудно восстановить духовный облик Грибоедова» (Н. К. Пиксанов), или от понятия «классик», которое всегда было как бы броней непогрешимости, скрывавшей от нас подлинную жизнь? Кто знает? Впоследствии в цитированной выше автобиографии Тынянов писал: «Я стал изучать Грибоедова — и испугался, как его не понимают и как не похоже все, что написано Грибоедовым, на все, что написано о нем».
В сущности, весь роман представляет собою безуспешные попытки найти себя в зажатой бенкендорфовскими тисками обстановке. Все не нужно, и все не то. А то, что нужно и могло бы составить счастье,— не дается в руки. Если сопоставить главу «Петровская площадь» с первой главой «Смерти Вазир-Мухтара», в которой
1 См. об этом в кн.: Ахметов С. Алмаз-Шах. М., Молодая гвардия, 1982, с.131.
443
дается условие задачи, решаемой во всем романе,— можно смело сказать, что связь двух произведений — неразрывна и что одно продолжает другое. Но это ни в какой мере не касается вопроса о полном несходстве стилей. В этом смысле «Смерть Вазир-Мухтара» кажется созданной как бы другим человеком.
«Кюхля» написан живым разговорным языком, объективный авторский тон преследует как бы одну главную задачу — рассказать путаную, беспорядочную жизнь «рыцаря без страха и упрека». Фраза стройна, однозначна и означает только то, что она означает,— не больше и не меньше.
Роман о Грибоедове написан совершенно иначе. Как бы написанный самим Грибоедовым, он полон невысказанных мыслей, известных только читателю, а не тем, к кому они относятся, полон намеков, кроющихся как бы в «тени фразы», смелых сравнений, более свойственных поэзии, а не прозе.
В противоположность утренней ясности, в атмосфере которой написан «Кюхля»,— для Грибоедова все неясно, шатко, жизнь кажется мнимой и — это главное — ничто не радует, все сомнительно, нет ни дружбы, ни искренней любви.
В «Смерти Вазир-Мухтара» перед нами друг декабристов, отравленный горечью их неудач. Перед нами не хрестоматийный классик, заслуживший вечную благодарность потомства, но автор запрещенной комедии, не увидевшей ни печати, ни сцены. Перед нами Грибоедов, у которого «в словесности большой неуспех». Грибоедов, разговаривающий со своей совестью, как с человеком. Роман Тынянова — это как бы огромный психологический комментарий к гениальной комедии. Все ясно — и причина, по которой комедия, в сущности, осталась единственным произведением Грибоедова, и тот кажущийся парадоксальным факт, что автор этой комедии, распространявшейся декабристами в целях политической пропаганды, стал полномочным министром — «Вазир-Мухтаром».
С проницательностью тонкого дипломата Тынянов раскрыл интриги английской миссии, направленные против русского влияния в Персии. Кажется очевидным, что эта сторона романа основана на особенно тщательном изучении исторических документов,— стоит только представить себе, какую политическую ответственность брал на себя Тынянов, рисуя деятельность британских резидентов при шахском дворе в Тегеране. Между тем лишь недавно, уже в наши дни, с выходом в свет книги С. В. Шостаковича «Дипломатическая деятельность Грибоедова» (М. 1960), стало ясно, насколько точна была художественная интуиция Тынянова. «Весною 1828 года, во время пребывания Грибоедова в Петербурге, там «случайно» оказался один из активных противников русского влияния на Среднем Востоке капитан Кемпбелл, секретарь британской миссии в Тавризе». Тынянов, без сомнения, знал об этом. Но он не знал, что «при встрече с Грибоедовым в Петербурге Кемпбелл бросил русскому посланнику весьма недвусмысленное предупреждение: «Берегитесь! Вам не простят Туркменчайского мира!»
«Там, где кончается документ, там я начинаю...— писал Тынянов.— Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел аа документ или не дошел до него, за его неимением». Именно так, с изумительной интуицией, был угадан Грибоедов-дипломат — фигура, историческое значение которой лишь теперь в полной мере доказано исследованием С. В. Шостаковича.
444
«И полковник Макдональд проводит вечера напролет, запершись наглухо в кабинете с доктором Макнилем, который спокоен, как всегда» («Смерть Вазир-Мухтара»).
«И, как всегда, доктор Макниль остался в комнате, когда увели маленьких принцев и ушла мать. Вошли, осторожно ступая, три евнуха, как три шахских мысли: Манучехр-хан... Хосров-хан... и Мирза-Якуб... Они сидели неподвижно на коврах и разговаривали. Потом доктор Макниль пошел на второй визит к Алаяр-хану... к Зилли-султану, сыну шахову, губернатору тегеранскому.
Вот и все, что известно об этих визитах доктора Макниля» («Смерть Вазир-Мухтара»).
Теперь о них известно гораздо больше. Вот что сказано в книге С. В. Шостаковича: «Многотысячная толпа, в полном смысле слова потерявшая всякий человеческий облик, омывшая руки в крови защитников миссии, штурмом берет дворы британского посольства, убивает русских (находившихся там.— В. К.), грабит русское имущество в британской миссии и одновременно бережно относится к имуществу, составлявшему британскую собственность... Мыслимо ли вообще представить, чтобы сами обезумевшие фанатики во время резни русских четко отличали бы «дружественное» — британское от «вражеского» — русского, если бы не было среди них подстрекателей и вожаков, надлежащим образом наставленных организаторами разгрома русской миссии. Недаром Макниль писал своей жене в феврале 1829 года: «Я не сомневаюсь, что был бы в Тегеране в такой же безопасности, как и везде».
Мне хочется привести обратный случай в работе Тынянова — когда не отсутствие, а наличие достоверных по видимости документов искажало историческую картину. Работая над «Смертью Вазир-Мухтара», он был поражен историей Самсон-хана. История эта была разработана известным археологом А. П. Берже, автором многочисленных трудов по истории Кавказа. Тынянову показалось странным, что Самсон-хан, солдат-дезертир русской армии, в работах Берже показан как дворянин, случайно поступивший на службу к иностранному правительству; во время русско-персидской войны он будто бы отказался от участия в войне и уехал из Тавриза. По Берже получалось, что русский батальон дезертиров не выступил против русской армии. «Я решительно ничего не мог сделать с этой конфетной историей,— рассказывал Тынянов в статье для сборника «Как мы пишем».— И не пробовал. У меня не было под рукой никаких документов, опровергающих Берже, и все-таки я не мог писать вместе с Берже. Мне почему-то представлялся все время какой-то попечитель учебного округа эпохи Александра III, где-то, в какой-то гимназии, уверяющий гимназистов, что «даже закоренелые преступники, и те почувствовали раскаяние...». Бахадарен в ханском халате, убивший свою жену, как-то хмурился и не соглашался на свои горячие национальные чувства. Начальник гвардии не может отказаться от военных действий. И как персы позволили бы этому своему генералу пить кофе и шербет, когда их били? Разве из недоверия? Но батальон дезертиров, эти дезертиры, многажды битые и прогнанные сквозь строй — и ненавидящие строй, который их обидел, так-таки «не пожелали», «отказались» и т. д. Нет. И, сознательно, не имея документов, опровергающих Берже, я написал об участии Самсона и его солдат в битвах с русскими войсками и не чувствовал угрызений совести. А потом, уже после того, как напечатал это, роясь в каких-то второстепенных материалах, наткнулся на краткую записку генерала (кажется, Красовского),
445
в которой тот требовал подмоги, потому что на левом фланге наседают на него русские изменники. А насчет того, что Самсон уезжал из Тавриза во время войны, этот факт подтвердился. Но уехал он из Тавриза — в ставку персидского главнокомандующего Аббаса Мирзы».
Как свободно, хочется отметить, пишет Тынянов о своей работе! С каким изяществом! Можно подумать, что она не стоила ему такого уж большого труда. Но в глазах становится темно, когда вы открываете любую его рукопись с бесчисленными зачеркнутыми, восстановленными и вновь зачеркнутыми вариантами, проверенную беспощадностью историка и великой любовью к русской литературе.
«Смерть Вазир-Мухтара» писалась около двух лет и не встретила такого единодушного восторженного отзыва, как «Кюхля». Мнения разделились, и это понятно. Сложность стиля, тонкая своеобразная композиция, новизна и своеобразность сюжета требовали — и требуют — глубокого знания нашей истории и еще более глубокого ее понимания. Без тени оговорок его признал Горький.
В. Каверин
* * *
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан