Раздел ХРК-114
Боборыкин П. Д.
Повести и рассказы
Сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. С. И. Чупринина.
— М.: Сов. Россия,1984.-336 е., ил.
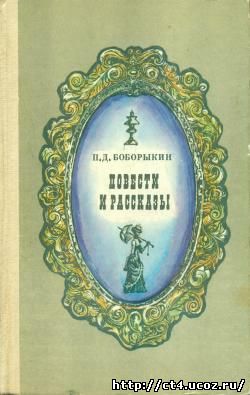
Аннотация:
Петр Дмитриевич Боборыкив (183G —1921) был широко известен как автор многочисленных ромвпов («Солидные добродетели», «Жертва вечерняя*, «Дельцы», «Кита и-город», «Василий Теркин», «Тяга» и др.). а также повестей, рассказов и мемуаров.
Советскому читателю знакомы его роман «Китай-город», неоднократно издававшийся, и литературные мемуары. В настоящий сборник вошли две повести («Долго ли?», «Поумнел») и рассказы («Труп», «Последняя депеша»), в которых с наибольшей силой проявились наблюдательность и критическое отношение писателя к буржуазному обществу.
Содержание:
Литератор.
Жизнь, творчество и судьба Петра Дмитриевича Боборыкина. Сергей Чупринин
Долго ли? Повесть
Труп. Рассказ
Поумнел. Повесть
Последняя депеша. Рассказ
Примечания
Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать
Жизнь, творчество и судьба Петра Дмитриевича Боборыкина.
1
Эту статью с полным основанием можно было бы начать так: долгая жизнь Петра Дмитриевича Боборыкина (1836 — 1921) сложилась весьма счастливо.
Выходец из типичной помещичьей семьи, он получил отличное, даже по тем временам, образование — сначала в Казанском университете, затем в Дерпте (ныне — Тарту), где готовился к карьере ученого-химика и медика и составил собственное «руководство по животно-физиологической химии», и, наконец, в Петербурге, где успешно выдержал кандидатские экзамены по «разряду административных наук». Превосходно владея основными европейскими языками (уже в зрелые годы к ним прибавились древнегреческий, польский и др.), объездив весь Старый Свет, располагая обширными познаниями в философии, естествознании, политических дисциплинах, в изобразительном и театральном искусстве, он слыл одним из культурнейших людей своей эпохи, умелым рассказчиком и интересным собеседником, хранителем традиций старорусской дворянской просвещенности.
Занятия литературой он начал рано и тоже весьма удачно: первые же его пьесы — «Фразеры», «Однодворец», «Ребенок»,— написанные еще студентом Дерптского университета, увидели свет столичной и провинциальной рампы, вызвали доброжелательные отклики прессы, а объемистый, шестидесятичетырехлистный, роман «В путь-дорогу» (1862 — 1864)
3
заявил о Боборыкине как об очень и очень перспективном прозаике, верном заветам отечественного реализма.
Внимание публики почти неизменно сопутствовало и появлению последующих сочинений писателя — романов «Земские силы» и «Жертва вечерняя», «Солидные добродетели» и «Дельцы», «Китай-город» и «Тяга», «Перевал» и «Василий Теркин», повестей «По-американски» и «Поддели», «Однокурсники» и «Исповедники», многочисленных рассказов, пьес, очерков, философских и литературно-критических статей, театральных рецензий, основательного исследования «Европейский роман в XIX столетии» и мемуарных книг «Столицы мира» и «За полвека»...
Здесь названы лишь некоторые из произведений Боборыкина. В целом же его литературное наследие почти необозримо; достаточно сказать, что в течение добрых пятидесяти лет он был наиболее, пожалуй, аккуратным «вкладчиком» наиболее респектабельных журналов своей эпохи: от «Библиотеки для чтения» до «Отечественных записок», от «Вестника Евролы» до «Русской мысли». Вошло даже в обычай — открывать журнальный год новым романом или, на самый худой конец, новой повестью «нашего маститого беллетриста»,— благо, все, что появлялось из-под пера Боборыкина, было обращено к самым животрепещущим вопросам русской общественной жизни, проникнуто демократическими тенденциями, направлено на пробуждение в читающей массе добрых чувств и светлых упований.
Работоспособность, по нынешним меркам, почти невероятная; почти невероятна и стабильность творческой деятельности писателя, которого доставало и на беллетристику, и на активное участие в театральных делах, и на журналистику (заслуживают быть отмеченными, в частности, его отчеты о Брюссельском конгрессе I Интернационала и его очерки «На развалинах Парижа», рисующие Францию сразу после падения Парижской коммуны), и на теснейшее общение не только с русскими, но и с европейскими знаменитостями.
Кого только не успел «зазнать» (его словцо) Петр Дмитриевич Бобо-рыкин за полвека с лишним беспорочного служения общественным идеалам и литературе! Пересматривая сейчас его воспоминания, роясь в его обширных и практически не обследованных архивах, наудачу выхватываешь имена: Герцен, Писемский, Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Чехов, Флобер, Ренан, Золя, Гон-
куры, Мопассан... И со всеми почти он состоял в более или менее оживленной переписке1, обо всех оставил важные свидетельства...
Пользовался ли он расположением своих великих современников? Всякое бывало, конечно, но в целом, видимо, пользовался. Недаром же Некрасов и Салтыков-Щедрин от года к году печатали его романы в «Отечественных записках», а Чехов, к примеру, назвал Боборыкина «добросовестным тружеником», прибавив, что «его романы дают большой материал для изучения эпохи». Недаром и Лев Толстой, весьма «сердитый», как известно, отметил: «Боборыкин замечательно чуток. Это заслуга»,— а в 1900 году в письме вице-президенту Академии наук М. И. Сухомлину твердо выявил свою волю: «Писатель, которого я предложил бы к избранию в почетные члены, это художник и критик П. Д. Боборыкин. Если это можно, то я повторяю это предложение 6 раз» .
Репутация Боборыкина к рубежу столетий была., надо полагать, настолько устоявшейся, несомнителыюй, что его избрание в почетные академики прошло вполне успешно. Сам же писатель, успев взволнованно откликнуться на события первой русской революции и последовавшую затем реакцию, вскоре покинул Россию и тихо угас в швейцарском городке Лугано за несколько дней до своего восьмидесятипятилетия.
2
Все сказанное выше о Петре Дмитриевиче Боборыкине, конечно, правда. Дай бог всякому, как говорится, такой долгой, богатой впечатлениями, наполненной трудами жизни. И все-таки...
И все-таки эту статью с полным на то основанием можно начать и иначе: писательская, литературная судьба Петра Дмитриевича Боборыкина сложилась на удивление неудачно. Не обделенный ни знаниями, ни дарованием, ни преданной любовью к искусству, он с первых же пьес, с первых же
Чтоб составить представление об объеме этой переписки, приведем фразу из неопубликованного письма Боборыкина Н. Ь Михайловскому от 24 декабря 1875 года: «Пишу я... 700 писем в год, в том числе 500 в Россию»,— и попросим читателя перемножить эти цифры на число лет, отданных маститым беллетристом литературе.
2 Почетному академику Л. Н. Толстому было предложено, по обычаю, назвать имена шести желаемых кандидатов к избранию по разряду изящной словесности.
5
романов прочно занял место во «втором ряду» родной словесности, в кругу •бытописателей» и «беллетристов», и с места этого не стронулся в протяжении всей своей долгой творческой биографии.
Нельзя сказать, что он не посягал на более завидную участь, не стремился стать вровень с Толстым и Тургеневым, Достоевским и Чеховым. Посягал, и еще как посягал, выставляя в печать одну «энциклопедию русской жизни» за другой, сетуя на тенденциозность критики и забывчивость потомства: «...я совсем изменил склад повествования, пропуская все и в объективных вещах через психику и умствепный склад действующих лиц. Этого вы не найдете ни у кого из моих старших. У Тургенева, у Толстого даже следа нет — совсем по-другому. Точно так же и в складе рассказа, в ходе его, в отсутствии тех условностей, которых держались все мои сверстники». Уже на склоне лет он, не смиряя обиды, неустанпо твердил о своем приоритете в сравнении с Чеховым («Ведь его язык, тон, склад фразы, ритм — не с неба же свалились? (...) ...Вопрос о том: между Чеховым и Толстым кто стоит, в смысле более нервного, краткого, колоритного языка... с другим совсем ритмом,—...не заявление только моей авторской претензии») и, например, Куприным («...ведь я — его прямой предшественник, и притом в литературно-художественной форме»)...
Ламентации такого рода отчасти, как мы увидим позднее, справедливы, но что ламентации? — они не в силах были, конечно, «перешибить» (опять его словцо) той инерции восприятия, той репутации, что складывались десятилетиями. И дело здесь даже не в том, что у Тургенева, Толстого, Гаршина. Чехова, Короленко наряду с добрыми отзывами о Боборыкине встречаются и весьма нелестные, не в том, что у Салтыкова-Щедрина, например, срывались с пера раздраженные фразы вроде: «Боборыкина повесть — черт знает что такое! Нынче литераторы словно здравого смысла лишились»...
Гораздо большая беда в том, что и в положительных аттестациях, которые давали Боборыкину его современники: «добросовестный труженик» (А. Чехов), «замечательно чуток» (Л. Толстой), «чуткий бытописатель русской жизни» (В. Комиссаржевская),. «маститый бытописатель» (А. Луначарский),— содержалось весьма сдержанное мнение о размерах дарования писателя и о его вкладе в отечественную литературу. Единствен-
1 Выделено здесь в всюду в дальнейшем П. Д. Боборыкиным.
6
ный раз Боборыкину удалось услышать аро себя слова «великий романист», да н то Э. Золя, приславший приветственную телеграмму к 40-дети ю литературной деятельности автора романов «На суд» и «На ущербе», тут же предусмотрительно оговорился: «...я страшный невежда, по-русски не читаю и не могу судить о нем и высказывать свое суждение» .
Юбилейные славословия, впрочем, в любом случае совершенно особая статья. Куда чаще применительно к Боборыкину в течение полувека звучало — в глаза, печатно, внешне почтительное: «опытный беллетрист», «маститый романист», «почтенный автор»,— а за глаза совсем уж буффонное: «Пьер Бо-бо», «нана-туралист», «Боборыша» и проч. и проч.
Обо всем этом надобно знать современному читателю, как и о том, что все почти литературно деловые начинания Петра Дмитриевича кончались более чем плачевно, к убытку для его доброго имени. Он в двадцать с малым лет взялся быть редактором-издателем солидного журнала «Библиотека для чтения» — и почти мгновенно прогорел, лишившись как унаследованного состояния, так и репутации «делового человека». Он многократно брался за руководство частными театрами — и все обязательно кончалось пшиком. Он в истории с «академическим инцидентом» 1902 года, когда Николай П не утвердил избрание Горького в почетные члены Академии наук, долго интриговал, чтоб обеспечить единогласный протест всех своих коллег по разряду изящной словесности, и в критическую минуту спасовал, не отправил заранее заготовленного заявления о собственном демонстративном выходе из опозоренной академии, так что в истории литературы остался лишь благородный поступок Чехова с Короленко, а на реноме Петра Дмитриевича легло явственное пятно1. Он, наконец, много-много лет работал над исследованием судеб европейской прозы нового времени—и не сумел выпустить из печати второй, и наиболее значительный, том этого капитального труда, посвященный русской романистике XIX века...2:
Такая вот судьба. И что ж удивительного, что в сознании русской
«Большое опопатлепис произвело в Пе-.-рбурго Ваше письмо а Академию...- сообщая Чехову Кущин. — На днях в одном обществе, где был п Бобо рыкни, это письмо читала вслух Маститый романист, говорят, чувствовал себя при этом не совсем ловко».
1 Неполная корректура этой книги — «Русский роман до эиохп 60-х годов» — хранится
в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом).
7
читающей публики имя Боборыкина сделалось едва ли не символом торопливой плодовитости и фактографичное»? И это при том, что романов, повестей и рассказов «маститого беллетриста», за вычетом неоднократно переиздававшегося «Китай-города», не читал почти никто из наших современников! И это при том, что уж точно никто из нас не видел его пьес на сцене!
В памяти литературы сохранилось только имя, полусимвол-полужупел. Романы же и прочее, что составило два многотомных прижизненных собрания сочинений, ушло в архивные фонды. И настолько глубоко, что Твардовский, например, только по завершении своей «книги про бойца» узнал, что первый в русской словесности «Василий Теркин» появился еще в 1892 году...
Что же касается историков литературы, то и они, введя в научный оборот двухтомное издание «Воспоминаний» Боборыкина, лишь в исключительных случаях борутся за «Долго ли?» и «В усадьбе и на порядке», за «Полжизни» и «Фараончиков», за «Ходока» и «Последнюю депешу». Утвердилось мнение, что, хотя в художественном отношении романы, повести и рассказы Боборыкина «выцвели, как выцветают фельетоны на злобу дня», они тем не менее продолжают оставаться важным источником сведений для исследователей русского общественного уклада во второй половине XIX и в начале XX столетия.
Вывод этот, скорее всего, основателен. Но вся печаль в том, что и исследователи общественного уклада к сочинениям Боборыкина практически не обращаются. Они и для профессиональных историков тоже вне поля зрения; за чертой творческой заинтересованности.
Так что ж выходит: верна, значит, инерция восприятия (точнее, невосприятия), и к трудам П. Д. Боборыкина, 150-летие со дня рождения которого мы могли бы вскоре отметить, действительно некому и незачем приковывать свое внимание? И как все-таки примирить абсолютно благополучную писательскую «биографию» с абсолютно неблагополучной писательской «судьбой»?
Тут — загадка. И распутать со необходимо, как ради памяти честпого писателя, не впустую же хлопотавшего в русской литературе около шестидесяти годов, так и ради того, чтобы заново поставить принципиально важный вопрос о соотношении между творческой «стратегией» и творческой «тактикой», между биографией и судьбою художника.
8
Как известно, одаренные люди приходят в искусство с разными задачами. Одних привлекает возможность исследовать общество и личность в их родовых чертах и их индивидуальной окраске. Другими движет неукротимая фантазия, стремление трансформировать реальность в собственную «художественную вселенную», близкую к подлинной и в то же время чуточку не такую, какой мы все ее видим. Третьим дорога «учительная», проповедническая функция искусства и т. д. и т. п.
Словом, резонов для занятия писательством много; в каждом данном случае свой. Свой резон был и у молодого Петра Дмитриевича Боборыкина — он, воспитанный на «Повестях Белкина» и «Герое нашего времени», «Мертвых душах» и «Обыкновенной истории», «Семейной хронике» и «Записках охотника», вдруг (о, это вдруг в жизни художника!..) обнаружил, что отнюдь не все области российской действительности оказались в середине XIX века «охваченными» художественной литературой.
Спустя десятилетия, возвращаясь к моменту выбора пути, Боборыкин снова спросит: «...воспользовалась ли наша беллетристика всем, чем могла бы в русской жизни 40-х и половины 50-х годов?» И снова ответит сам себе: «Смело говорю: нет, не воспользовалась. Если тогда силен был цензурный гнет, то ведь многие стороны жизни людей, их психия, характерные особенности быта, можно было изображать и не в одном обличительном духе. (...) Без всякой предвзятости, не мудрствуя лукаво, без ложной идеализации и преувеличений, беллетристика могла черпать из жизни каждого губернского города и каждой усадьбы еще многое и мпогое, что осталось бы достоянием нашей художественной литературы».
Счет, предъявленный Боборыкиным русской литературе, счет в «неполноте» охвата действительности, он решил оплатить самостоятельно — и решению этому остался верен до последних дней своей писательской карьеры.
В русской литературе нет, скажем, чего-то вроде «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гете, нет художественной картины гимназического и студенческого быта? Значит, будет, и роман «В путь-дорогу», во многом
9
автобиографический, на протяжении двух лет аккуратно поступает к подписчикам «Библиотеки для чтения».
У нас не говорили пока о том, как скверно живется литераторам и журналистам-поденщикам? — и уже пишется повесть «Долго ли?», уже создается (утраченная в рукописи) пьеса «Скорбная братия», уже идут к читателю журнальные очерки и газетные фельетоны.
В беллетристике не возникали еще образы первых русских марксистов, ницшеанцев, необуддистов и прочая и прочая? — так вот же они, все собра-пы в романе «Перевал», все спешно обмениваются новостями и исповеданиями веры, все горячатся и спорят...
Это очень важно подчеркнуть: корни творческих неудач Петра Дмитриевича Боборыкина никак не в том, что он задавался слишком мелкими или чересчур временными целями. Как раз наоборот: вся его драма в том, что он добровольно взял на себя груз, который и куда большим талаитам невподъем. Он как бы вознамерился заменить своими книгами всю русскую литературу в целом, представить публике нечто похожее на газету или, лучше, на ежегодно обновляющийся многотомный беллетризированный энциклопедический словарь, где есть главы (романы, повести, рассказы...) и о первых в России столкновениях фабричных рабочих с предпринимателями, и о проституции в высшем свете, и об отношении дворянской молодежи к балканским войнам, и о позднейшей судьбе либералов-шестидесятников, и о превращении замоскворецких купцов в англизированных буржуа, и о многом, очень многом еще.
И что же?..
Можно, конечно, считать, что Боборыкин успешно справился с задачей. Недаром, как сочувственно сообщает мемуарист, «им было не пропущено буквально ни одного крупного сдвига в интеллигентских настроениях, бытописателем которых он по преимуществу являлся»1. Романы, повести Боборыкина действительно рвали друг у друга из рук, особенно в провинции. Здесь уместно сослаться на свидетельство критика журнала «Мир божий» Вл. Кранихфельда, который долгие годы провел в ссылке и отлично запомнил, что1 «...чтеиие каждой январской книжки «Вестника Европы» ссыльные интеллигенты «начинали непременно е г. Боборыкина... Газеты и журналы того времени освещали русскую жизнь далеко пе полно,
1 Мольгупоп С. П. Встреча П. П. Д. Боборыкяя. — Голос минувшего, 1923, Лг 1, с. 210.
10
непосредственных сношении со столицами у нас не было, и г. Боборыкин был для вас единственным лицом, от которого мы получали сведения о сменах столичных настроений и течений»1.
Книги Боборыкина, несомненно, делали свое благое дело, и нам грешно было бы упустить сейчас из виду, что писатель десятилетиями держал публику «в курсе» всех и всяческих новостей, раньше всех оповещал о появлении новой знаменитости или нового умственного веяния, первым открыл для литературы, например, мир фабричного пролетариата или европеизированной русской буржуазии. В воспроизведении мимики «героев своего времени» он преуспел, безусловпо, больше всех, но —увы! — в литература, и история по своей натуре безжалостны, и стоило хоть на йоту измениться мимике или стоило появиться книгам, в которых сквозь «выражение лица» прозревались «черты лица», как произведения Боборыкина оказывались либо устаревшими, либо отмененными. Так, «хмурые люди» Чехова «отменили» боборыкннских «средних» интеллигентов — «негероев»; так, Горький «окуровским» циклом «отменил» боборыкинские повествования о мятущихся купцах; так, купринская «Яма» отменила «Жертву вечернюю»...
Что оставалось писателю? Снова и снова ловить меняющееся «выражение лица» своей эпохи, откликаться на новую «злобу дня», торопиться со сдачей романа, повести, пьесы... Работа шла, как у конвейера, требующего все новых и новых впечатлений, наблюдений, подробностей, деталей; книги «слипались» одна с другою в некое подобие «летописного документа», по удачному определению А. Луначарского; время не хотело ждать; и, надо сказать, эта работа, эта гонка, этот темп очень нравились писателю, вполне соответствовали и его личному темпераменту, и его представлениям об обязанностях художника как «отметчика» стремительного бега эпохи.
«...Я целый день рыщу по Москве: дошел до того, что точно гимназист на масленице — бываю по два раза в день в театре, и даже одном и том же: днем па генеральной репетиции, а вечером на спектакле,— восторженно сообщал семидесятитрехлетний ромапист своему гораздо более молодому «собрату».— Произвожу я и анкету по части новейшего городского мистицизма в его разветвлениях. За мое отсутствие
1 'К ра в и хф е л ь д Вл. Журнальные отголоска.— Мир божий, 1906, № 3, отд. II, с. 8-4.
11
накопились такие толки: свободные христиане, «братчики», «люди 3-го царства», «бессмертники», теософы (штейнеровского толка), адвентийцы, буддийцы! Очень интересно!»
Такая чрезмерная озабоченность преходящей «злобой дня», такая оперативность в отклике, когда главным оказывалось «отметить», а не исследовать очередной этап общественно-исторического процесса, не могли, конечно, не раздражать наиболее серьезных и вдумчивых современников Боборыкина. И Тургенев, думается, высказывал не свою только личную точку зрения, когда писал Салтыкову-Щедрину: «Я легко могу представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние «веяния» погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты аа пять минут до их нарождения».
4
И все-таки...
И все-таки повторим на новый лад уже сказанное: без произведений Боборыкина, как и вообще без книг такого рода, литература не живет и жить не может. Развернутые к современности, к прибою секунд и минут, они говорят обществу о том, что занимает общество именно в данное мгновение, они неустанно фиксируют и по мере сил формируют общественное мнение, своей беззатейной простоватой правдивостью готовят общество к постижению социально-философских и художественных истин, которые еще только вызревают в душе крупных мастеров слова.
На это — общественное — значение боборыкинских книг и на эту — общественную в своей сути — сфокусированность творческих тяготений писателя стоит обратить первоочередное внимание. Хотя бы потому, что Боборыкина, вошедшего в учебники и словари в роли ведущего представителя русского натурализма, часто упрекали именно в асоциалыюсти, общественном индифферентизме, в избыточном увлечении «биологическими» мотивировками, скабрезностями и всякого рода физио- и психопатологиями, в повышенном интересе к там называемому «человеку-зверю», человеку как «функции» пола, низменных инстинктов и проч.
Эти упреки почти совершенно безосновательны. И возникли они
12
не столько благодаря некритическому отождествлению разных во многом французского «золаизма» и русского натурализма, сколько в силу бытующего доброе столетие неразличения понятий натурализма как литературного явления и натуралистичности как синонима всевозможной «грязи», «клубиицизма» и «бестиальных драм», если воспользоваться здесь известными выражениями Салтыкова-Щедрина.
Эмиль Золя и его европейские сподвижники в какой-то мере повинны в таком неразличении — «Чрево Парижа» и «Нана», «Жерминаль» и «Земля» тоже, будучи прежде всего романами общественными, выросшими из традиций критического реализма, действительно шокировали публику, в том числе и русскую, предельной, по тем временам, откровенностью в описании физиологических отправлений человеческого организма, акцентом на «проблемах пола», интересом к подсознательным и бессознательным тайнам психики, известной «свободой» в трактовке моральных коллизий.
Золя и золаисты поставили своей задачей «расширение пределов изображения», снятие всякого рода этических и эстетических «табу», и надо сказать, что их опыт, при всех издержках, был учтен и перенят искусством XX века. О «расширении пределов изображения» мечтал и Боборыкин со своими русскими единомышленниками (И. Ясинским, А. Амфитеатровым, Н. Морским, Вас. Немировичем-Данченко и др.), но движение здесь шло не «вглубь» (как у Золя, Мопассана, Гонкуров), а по преимуществу «вширь», в сторону «искреннего, серьезного воспроизведения жизни таких слоев общества, какие еще не были забираемы беллетристикой...».
Понятное дело, что в романах о «подонках столичного дна», проститутках, нравах великосветского общества и больших купеческих ярмарок не обходилось без внимания к пресловутым «проблемам пола» — этот интерес к тому же в значительной степени провоцировался как эволюцией социальной этики к большей раскрепощенности, так и общераспространенным в ту пору увлечением открытиями физиологов, психиатров, деятелей судебной медицины и т.д. И все же простое сопоставление самых «нескромных» страниц в наследии Боборыкина с русской классикой и уж тем более с книгами русских писателей XX века выявит и благопристойную умеренность боборыкинских «картинок», как тогда выражались, и то, что эти «картинки» обыкновенно лишь сопровождали основной сюжет, расцвечива-
13
ли его,— словом, как сказали бы сейчас, выполняли функцию своего рода беллетристического «гарнира»...
Основной же сюжет боборыкинских произведений, в том числе и тех, что вошли в нынешнее издание, неизменно связывался с выяснением общественных отношений и настроений, с определением общественного облика и общественной фупкции того или иного персонажа.
«Идеи и темпераменты заменили судьбу... Исключительный интерес к одному действующему лицу... отходит на задний план, и «приключения» уступают место развитию одной какой-нибудь творческой идеи, которая позволяет автору дать... картину уже не индивидуальной, а собирательной психической жизни». Такова была теоретическая формула. Такова была и практика как русского натурализма в целом, так и Петра Дмитриевича Боборыкина, ведущего теоретика и художника «школы», ставшей модной в последние десятилетия XIX столетия.
Боборыкин не хлопотал об остроте и занимательности интриги, его не слишком занимала и суверенная индивидуальность внутреннего мира живописуемой личности, все то, что выделяет эту личность из круга ей подобных. Скорее, напротив: в личности героя отыскивались и выделялись как раз анонимно-всеобщие, унифицирующие черты, то есть те, которые позволяли видеть в человеке своего рода производное среды или данного типа общественных отношений, нечто вроде одушевленной «эмблемы» того либо иного социального слоя, того либо иного умонастроения, той либо иной социальной роли.
Перипетии личной биографии героя становились удобным поводом для «экскурсий» из великосветской гостиной в купеческий «лабаз», из Парижа в Сызрань и обратно; а в озабоченности персонажа каким-нибудь сугубо как бы «личным вопросом» явственно просматривалась очередная волнующая автора «идея», или, если перевести это слово на сегодняшний литературно-критический язык, «проблема». Например, проблема «свободной любви» и невозможности построить собственное счастье па страданиях других людей — рассказ «Труп». Или проблема неудержимо-стремительного «поправония» былых либералов-шестидесятников — повесть «Поумнел». Или проблема оказания помощи бедствующим литераторам-разночинцам — повесть «Долго ли?». Или, наконец, проблема великой дружбы, «каких уж не видать нынче»,— рассказ «Последняя депеша»...
14
Это обстоятельство тоже надо учесть, откорректировать им априорное представление о Боборыкине как о бесстрастном «фактографе», невозмутимо описывающем все, что ни попадется ему на глаза. Петр Дмитриевич был действительно неравнодушен к любым подробностям быта и никогда не отказывал себе в удовольствии вставить в сюжетную раму ту деталь, что не идет непосредственно к делу, хотя и небезынтересна сама по себе,— таковы, скажем, притормаживающие действие главки об извозчиках в повести «Поумнел», таковы непременное (и, вероятно, утомляющее читателя) портретирование наружности даже самых эпизодических персонажей, описания интерьеров, нарядов, привычек и прочее и прочее.
Но все &то, так сказать, входит в число «дополнительных услуг», предоставляемых автором любознательному читателю. В центре же романов, повестей, рассказов и пьес Боборыкина непременно острая и непременно {актуальная с точки зрения данного момента проблема, с изложением которой и связан ствольный сюжет, почти обязательно увенчивающийся точками над «i», недвусмысленно выраженной авторской «моралью», в которой, как в фокусе, собрано то, что сейчас принято называть позицией писателя.
5
И здесь, видимо, пришло время поговорить об этой авторской позиции. Бытующие на сей счет представления тоже не вполне верны, как убедится читатель нынешнего сборника.
Боборыкип — теоретик, Боборыкин — выученик Эмиля Золя и Ипполита Тэна, Боборыкин — оппонент «обличительного» направления в русской литературе всегда в принципе тянулся к полному беспристрастию в оценках и суждениях («Для натуралиста, для человека точного знания... обязательны не приговоры, не раз навсегда установленные мерила оценок, а, напротив... признание принципа относительности, забота о том лишь, чтобы разъяснять ход развития того явления, с каким он, в данную минуту, имеет дело»). В теории его литературный идеал в этом смысле оставался неизменным — абсолютное невмешательство в воспроизводимые события* амплуа не прокурора или адвоката, а судебного эксперта, который, «добру и злу внимая равнодушно», дает квалифицированные, обеспеченные знаниями и опытом заключения.
15
Боборыкин же практик, Боборыкин — романист и новеллист никогда не мог остаться равнодушным к тому, о чем он рассказывал. Его авторская позиция неизменно активпа, его гражданские пристрастия видны невооружённым глазом, его симпатии и антипатии четко поляризованы. Откройте повесть «Поумнел» — разве ж не заметно, как благоволит он Антонине Сергеевне и ссыльному Ихменьеву, как сторонится «ренегата» Александра Ильича, хотя и старается войти в его положение, в его «правду», как ненавидит самодовольно-хищных Лушкиных?.. «Тенденция», которую Петр Дмитриевич так не любил в современной ему русской литературе, «учительность», которая была — теоретически — так ему чужда, жестким каркасом проступают сквозь вязковатую, нарочито «объективизированную» описятельность, впрямую воздействуют на читателя, внушая ему, читателю, определенную «сумму идей» и настроений...
Другой вопрос — что это была за «тенденция» и что за «сумма идей».
В поисках наиболее подходящего определения вернее всего будет остановиться на слове умеренность. Да, Петр Дмитриевич Боборыкин, неумеренный в многописательстве и в погоне за жизненными впечатлениями, строго и последовательно придерживался во всем прочем идеалов умеренности и аккуратности, которым так досталось в свое время от Некрасова, Салтыкова-Щедрина, критиков-демократов.
Он был умерен в своих политических воззрениях — традиционный дворянский либерализм с его ориентацией на западноевропейскую конституционность, с его вялым сочувствием народу как «меньшему брату», с его надеждами на прогресс, рост просвещенности, эволюцию.
Умеренной была и его этическая программа — никакой симпатии крайностям домостроя или нравственным экспериментам «новых людей» — героев радикально-демократической литературы, всесторонняя поддержка старосемейных, морально-бытовых «устоев» среднеинтеллигентского круга.
Умерен был Боборыкин (это очень важно подчеркнуть) и в выборе как проблематики, так и героев собственных сочинений .
Эмиль Золя в «Парижских письмах», в течение шести лет почти ежемесячно появлявшихся на страницах петербургского «Вестника Европы», ставил в вину донатуралистической литературе ее стремление
16
к «генерализации»,, укрупнению художественных образов, ее взгляд на действительность сквозь «увеличительное стекло^,, которое будто бы искажает реальные жизненные пропорции, благодаря чему «лица сверхъестественного роста прогуливаются среди карликов». Методологическая установка Золя была воспринята и русскими последователями зачинателя европейского натурализма. Добиваясь — в принципе — максимальной достоверности, «похожести» своих картин на реальность, они «магический кристалл», «увеличительную линзу», сквозь которую художник смотрит на мир и благодаря которой изображаемые герои и изображаемые ситуации укрупняются до масштабов типических, до размеров художественного обобщения, попытались заменить неким подобием оконного стекла. И что ж увидели? Сереньких, «средних» героев, точнее, негероев, как тогда говорили, пресноватую суету, мельтешение житейских эпизодов, торжествующую будничность, не совместную ни с яркими мыслями, ни с сильными страстями, ни с неординарными поступками.
В этом, естественно, были и своя новизна, и своя правда. Все, кто читал Чехова, вспомнят, как точно воспользовался великий реалист открытиями, совершенными в лоне русского патурализма, как новаторски двинул он литературу к житейским будням, к «прозе быта», к героям, весь интерес которых не подымается выше вопросов о переезде из провинции в Москву или о продаже вишневого сада. Но — и тут колоссальная разница — чеховские «хмурые люди» вымерялись соотнесением с нравственным идеалом писателя, с его духовным максимализмом и уже тем самым становились типическими, возводились в перл творения.
Духовно-нравственные идеалы Боборыкина в точности совпадала с духовно-нравственным уровнем и духовно-нравственными посягательствами его героев. Жизнь рисовалась такой, какой она виделась, и идеалы утверждались такие, какие уже наличествовали в среднеинтелли-гентской массе.
Почти все, что было сверх этого, было, в глазах Боборыкина, уже от лукавого: и обличительство, социальное «протестантство», идущее от неудовлетворенности художника своей эпохой, и романтизация действительности, идущая, по сути, от того же, и сосредоточенный поиск принципиально новых жизненно-политических, жизненно-духовных решений. Боборыкин же всего, что «от лукавого», полуинстинктивно сторонился.
17
И если, скажем, проблема воплощения в искусстве нравственного идеала, создания образа положительного «героя нашего времени» трагически мучила творческое воображение Гоголя или Достоевского, то Боборыкин не знал особых терзаний. Своих «положительных героев» он находил в окружающей действительности настолько быстро и настолько проето, что число выведенных им «примеров для подражания» явно перевесит соответствующее число, составленное всей русской литературой критического реализма в целом.
Здесь и выпускник двух университетов Телепнев, обретающий смысл жизни в рациональном ведении помещичьего хозяйства (роман «В путь-дорогу»). И обнищавший дворянин Палтусов, видящий решение российских социально-экономических и духовных проблем в постепенном сращивании «культурного класса» с купечеством (ромап «Китай-город»). И просвещенный буржуа-патриот, вкладывающий свои капиталы в дело охраны природы и подъема народного образования (роман «Василий Теркин»). И бессчетное множество менее ярких героев и героинь, которые, подобно Антонине Сергеевне из повести «Поумпел», находят приложение своим силам в филантропии, в земской деятельности, в помощи обездоленным и «горюнам»,— словом, во всякого рода «малых делах».
«Теория малых дел», поэтом которой был Боборыкин, с естественной, видимо, неизбежностью возникает и находит спрос в эпохи исторического затишья или политической реакции, служа своего рода нравствен но-идеологической компенсацией за нехватку простора для подлинной деятельности, подлинной реализации человеческой личности. И, пересматривая сейчас произведения современников Петра Дмитриевича, в избытке находишь там и «положительных героев», творящих мелкое «добро» применительно к заданным условиям существования, и красноречивые тирады типа вот этой, например: «Жить можно только в деревне, где в природа настоящая, и люди настоящие, и нужда настоящая. Жить без пользы для кого-нибудь — бессмысленно и обидно. У каждого найдется где-нибудь маленький уголок, где он может принести пользу. Нет надобности стремиться во что бы то ни стало сделать грандиозное дело: что-нибудь полезное сделай, и уже в твоем существовании есть плюс» (повесть И. Потапенко «На действительной службе», 1890)...
18
Особость Петра Дмитриевича Боборыкина, таким образом, не в исключительности его авторской позиции, а в той неотступной настойчивости, в той последовательности, с какими он утверждал ее в "своей литературной практике. Утверждал, не без успеха, и в глухую пору исторического безвременья, и, уже без всякого успеха, в годы нарастания революционной бури.
6
Две повести и два рассказа, составившие настоящий сборник, не дадут, естественно, полного представления о более чем полувековом творческом пути П. Д. Боборыкина; такая задача была бы под силу разве что многотомному изданию... Но и они, как надеется составитель, выявят облик русского литератора, который слишком верно служил преходящим требованиям минуты, сверяя свою беллетристическую деятельность даже не с календарем, а с циферблатом карманных часов. Его книги, поэтизируя служение «посильной пользе», «малому делу», и в литературе сделали свое и в общем-то небесполезное «малое дело»: своевременно информировали публику о самоновейших событиях и «веяниях», трактовали злобо-дпевные общественпо-бытовые вопросы с точки зрения среднего русского интеллигента-прогрессиста, воспитывали, по мере возможности, сочувствие к униженным и оскорбленным, открывали для общества и литературы новых героев, новые слои и сферы социальной действительности, испытывали па прочность неизвестные ранее приемы и способы беллетристического повествования.
Много это для пишущего человека или мало?
Как посмотреть...
Странным было бы завышать значение боборыкинского вклада в историю отечественной словесности и отечественной общественной мысли. Литератор по преимуществу, то есть беллетрист, «бытописатель», он не выдерживает, естественно, сопоставления с Толстым или Тургеневым, Достоевским или Чеховым. Посредственный прозаик начала века И. Щеглов (Леонтьев), заметивший в дневнике, что «в одном рассказе Чехова больше чуется-Россия, чем во всех романах Боборыкина»1, вряд ли ошибся...
И все-таки уже одно наше великое уважение к Чехову, другим вы-
1 Литературное наследство, т. 68. М., i960, с. 482.
дающимся мастерам лишает нас права на забывчивость, на неблагодарность по отношению к тем скромным труженикам литературы, кто, не щадя сил, честно готовил почву для новых мировоззренческих и художественных открытий русской классики, к тем, чей творческий опыт как бы поглотился в творческом опыте гения.
Многое из того, что принадлежит перу Петра Дмитриевича Боборыкина, действительно представляет сегодня сугубо историко-литературный интерес. Но кое-что тем не менее осталось — в страницах, написанных уверенно и свободно, насыщенных не потерявшим своего значения смыслом, дышащих естественной любовью к России и верою в ее великую будущность.
Ради этих страниц, а также ради памяти о литераторе, чьи книги на протяжении более чем полувека были нужны русскому обществу, мы и обращаемся ныне к его художественному наследию.
Сергей Чупринин
|
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан