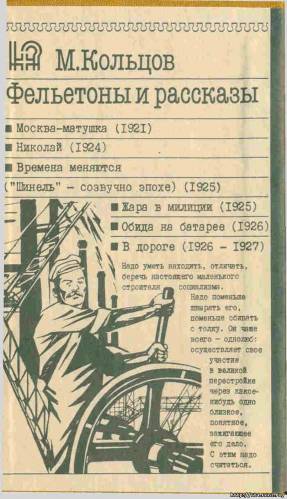

ФЕЛЬЕТОНЫ
МОСКВА-МАТУШКА
Высоко на холмах, в снеговом убранстве, в ожерелье огнен и знамен стоит далеко видная сквозь пургу красная, молодая Москва.
Молодая, крепкая, новая.
Есть еще и старая. Простоволосая, затрапезная. Мы про нее совсем забыли. А она уцелела.
На нее навалили четыре года революции, коммунизма, тяжелые глыбы декретов, стреножили милицией и чекой. Прищемили, припрятали.
Думали, кончится. А она выкарабкалась, просунула голову, ухмыляется старушечьим лицом.
Думали, что конец, что совсем ступили твердой пятой на остатки старой Москвы. А она еще дышит и перекликается. Сначала тихо, потом смелей и громче, кривыми переулками и тупиками. Собачьими площадками, замоскворецкими, кузнецкими домами.
— Ау!
— Ау, аушеньки!
— Живы?
— Да словно что и живы...
— Перешибло малость дух, да ничего, очухаемся.
В больших особняках, у тузов и фабрикантов, давно стрекочут советские машинки. Но в стороне, где потише и поглуше, там сидят и румянятся у самоваров старые Кит Китычи. Уже выглядывают из окошек, ходят в гости, живут и надеются.
Первый и второй страх от большевиков проходит. Если всмотреться — люди как люди. Маета, конечно, с ними. Оголтелый народ — что говорить, углубляют. Но все же обернуться можно. Не так страшны черти, как малюют себя на плакатах.
Вы как, капиталом все живете?
Нет, куда тут... Служить начали, Митенька наш заведует складом в Главодежде. Вера во внешкольный риют определилась. И сам старик наш на советскую лужбу собирается. Горд был, не хотел путаться, да скушно стало без дела сидеть. Все приятели служат. К тому ведь не скоро эта канитель кончится.
Сначала было страшно высунуть нос, открыть зажмуренные от страха глаза. А теперь, ей-богу, жить можно.
Взглянуть на Москву — конечно, не та. Но все-таки отошла, оттаяла. Если понатужиться — глядишь, подвинуться назад можно будет.
Закрыли Сухаревку—уже не очень страшно. Немножко приспособились, опайковались. Даже занимательно: кому какой паек по рангу полагается. Захар Иванович раньше в ситценабивной мануфактуре владычествовал. Теперь — спец. Совнаркомовский паек, выдачи. Индивидуальная ставка, автомобиль подают. Старик Червяков у него приказчиком служил — и теперь пристроен к хозяину: снабжением заведует при нем, тоже невредно — питается.
А там тебе — тыловой, красноармейский, вциковский, академический, медицинский, железнодорожный, артистический, музыкальный — какие угодно. Степан Степа-ныч ухитрился даже шахтерский заполучить.
Подошли праздники — тоже не в обиду. Шурин из Центробелуги икру получил, дочка в Центровоще — спаржу, из Внешторга — лимоны. Дядя принес подарок от бойцов Южного фронта — по целому гусю выдали, чудаки.
На пасху в Главаниле краски выдали — специально яйца красить. Из ТЕО — билеты на Шаляпина. Обо всем подумано. К святкам Москва-матушка повеселела, засуетилась. Извозчики везут, снуют. На салазках путешествуют пайки и выдачи.
В Большом театре собрался Съезд Советов. Матушка выглядывает из дыры.
— Что ж, пусть собираются, пусть потолкуют.
Горят фонари у подъезда, фыркают автомобили.
В пурпурных ложах сгрудились строгие френчи, думают отчаянные большевистские головы. Гремит «Интернационал» ; гудит смелый разговор про хозяйственную разруху.
Матушка слушает, с хитрой усмешкой поникла ушами переулков.
— Ишь задумали! Как же вам ее победить, разруху, без старой Ильинки с меняльными конторами! А впрочем, подождем — увидим. Про всякий случай — приспособимся, придвинемся ближе.
Интеллигенция — та уже вся наверху, на улице. Обсохла расправила перышки, зашумела, забалаганила на
тысячу голосов.
Все залы заняты под собеседования, публичные словоблудии с дорогими входными билетами.
Все стены заклеены пестрыми афишками.
Диспут! Словопря! Оппоненты!
«Поэзия и религия!» «Религия и любовь!»
«Путешествие в Иерусалим!» «Долго ли мы протянем
без православия?»
Диспуты, диспуты! Нажива бездельникам, трибуна болтунам, базар дуракам, тоска взыскующим.
Конкурсы стихов, вечера поэтесс, вся шумная, суетливая дребедень старой многоумственной матушки-Москвы.
Раньше встречали Новый год с цыганами, с Балиевым, с румынским оркестром. А теперь, пожалуй, тоже весело:
«Встреча Нового года с имажинистами! Билеты продаются».
Появились и озабоченно бродят по делам советских учреждений джентльмены из кафе Сиу, седовласые отцы из «Русских ведомостей», томные символисты из Художественного кружка, либералы, идеалисты, рыхлые обломки бывшей разухабистой российской столицы.
Старожилы ухмыляются в усы:
— Сияли над Москвой сорок сороков церковных главок, и прибавилось к ним сорок сороков Главков. Тесно стало, конечно. Да ничего, стерпишь.
Кланялись главкам, поклонимся и Главкам...
Хитрая салопница сбросила плюшевую ротонду, повязалась платком, нырнула в валенки. Москве-матушке это легко, совсем по нутру. Петроград — этот все еще шебаршит, сопротивляется, культурничает. Не хочет отдавать манишек и запонок. А Москва и сама рада пошмыгать в домашнем виде, похлопать на морозе варежками по-простому.
Подобралась матушка, подползла. Смотрит в очи новому миру, скалит зубы, хочет жить и жиреть.
—- Брысь, старая!
Не уйдет, не спрячется. На все согласна, ко всему готова.
Цеый день суетится, базарит, толчется по учрежде-
ниям. на площадях и уцелевших рынках.
Покрикивают автомобили, перекликаются красные часовые. С крыш домов строго мигают, пропадают и снова выстраиваются в небе огненные буквы: «Будет транспорт — будет хлеб». «Революция — локомотив истории». «Коммунистическая партия — стержень Советской России».
Погоди, матушка! Электрифицируют тебя, старуху!
1921
НИКОЛАЙ
Весна идет быстро, она всегда торопится. Она рушится, стихийная, радостная лавина. Быстро растают необъятные снеговые горы.
Половодье громадное. Грозит затопить целую окраину Москвы. Реки могучие подымутся, понесут усталую зимнюю грязь в моря. Россия в истоме потягивается, после многих зим отдохнувшая, отоспавшаяся, расправившая тело. Набухнут и с треском полопаются почки, смачно и одуряюще развернутся цветы, яростно врежутся сохи в земляную целину, будут лихо звенеть серебряные деньги, будут много и жадно любить девушки, будет навстречу пышному и жаркому лету подыматься жнивье, будут вызывающе трепаться на свежем бризе морей флаги Красного флота...
И перед такой же бурной и могучей весной растаяли однажды в Петербурге снега, растворив без остатка, без осадка самодержавнейших царей всея Руси. Октябрьская революция — суровый артиллерийский бой под сизой, металлической броней осеннего неба. Февральский переворот — радостное шипенье соды, брошенной в воду, публичное признание короля голым, безопасным, кавалерийский марш, рабочая потеха, когда хозяина с улюлюканьем и свистом вывозят на тачке, чтобы опрокинуть за тяжелыми заводскими воротами.
Кого же вывезли на тачке?
Запад и вместе с ним буржуазные и «демократические» Тартюфы и Маниловы говорят и пишут, что был низвергнут с трона император Николай Второй. Этот хилый и беспомощный исторический вариант случившегося 27 февраля не прожил в России и одного года. Этот миф перекочевал за границу, и только там догрызают его кадетские историки и американские бульварные газеты, выясняют ошибки и промахи царствования Николая, размазывают и обсуждают переписку последнего царя с женой, с Вильгельмом, со своими министрами.
Трудовые массы России знают, что свергли режим, а об остальном немедленно после февральского переворота забыли. Как человек, спросонья запустивший сапогом в крысу, чтобы, подняв сапог, взяться за настоящие свои дневные дела.
На другой день после переворота Демьян Бедный напечатал во втором номере маленьких «Известий» стихи о Николае. А через день и Демьян и его масса, настоящая, активная, революционная масса, уже забыли о Николае; только уличные газеты смаковали распутинские дела «царя Николашки и царицы Сашки».
Только за границей, вне советского воздуха могут еще идти споры и разговоры о царе, могут себя люди всерьез называть республиканцами, думая, что это что-нибудь значит.
А здесь, в России, стоя в трезвом виде на советской земле, о чем спорить, если ничего не было.
Был режим. А кроме режима? Ничего.
Прямо ничего. Нуль.
Как у Гоголя в «Носе» — «пустое, гладкое место».
Ведь недаром же покойный М. Н. Покровский писал фамилию «Романовы» в кавычках. Как не писать профессору-историку кавычек, если все Романовы двести лет назад повымерли, закончившись на дочери Петра Великого Елизавете Петровне!
Кавычки. В кавычках ничего. Пустые кавычки. Как шуба без человека. Как пустые шагающие валенки, приснившиеся Максиму Горькому.
Есть такая игрушка — «фараонова змея». Маленький белый конус. Подожжешь его спичкой — выползет и изгибается серая змея из пепла. Лежит совсем как змея. ....
<<<--->>>
 Cтарый 4емодан
Cтарый 4емодан

